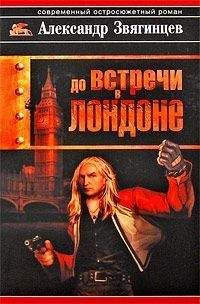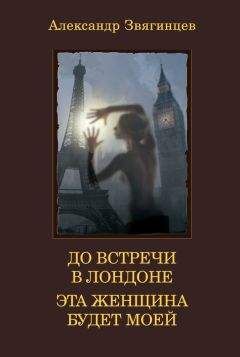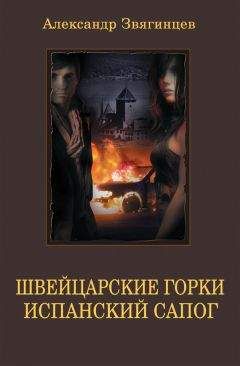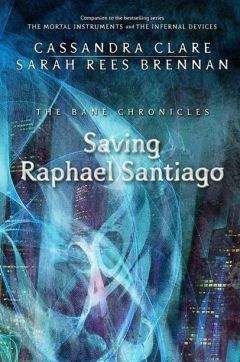Сергей Михеенков - Пречистое Поле
— Все бы ничего, Грнща. Ты уж не подумай, что мне хужей других. Живем-то сейчас хорошо. Пензия идет, недавно еще десяточку прибавили. Теперь больше полсотни получаю. Молоко сдаю, тоже деньги хорошие плотят. Жить бы да жить. Только ни к чему. Не для кого мне копейку собирать. Умирать буду, все сбережения, какие от похорон останутся, в сиротский дом передам. Больно много сирот нынче, Гриша. Народ в водке захлебнулся. Даже бабы пьют. Совсем стыд-совесть потеряли. Детей порченых родют. И хороших тоже в приют сдают. Матерями быть не хотят. Стратился народ наш, Гришенька. Уж ежели бабы пить стали, то что ж дальше будет? Теперь продают меньше, законы написали противу пьянства. А по нашему сельсовету и вовсе объявили сухой закон. Пока, сказали, покос не пройдет, продавать не будут. А народ только сильнее озлился, и еще хуже запивают. Работу кидают, на Новоалександровскую едут. Отраву разную пьют, даже вон чем мух да клопов травят. Лишь бы одуреть поскорее. И мрут. Мрут ведь, детей сиротами на свете белом кидают. А все одно пьют. Самогон теперь в каждом доме гонят. Тут хоть какой закон пиши, а толку не будет. Сахару в кооперации с весны нету. Мешками волокли. Сказали одно время будто подорожает, вот и волокли. Другой раз так-то вот подумаю, Гришенька: а может, такой разор на нас потому, что силу да власть над нами осинки забрали? А? Правительство вон хочет державу на правильный путь наставить, в газетах всю подноготную правду писать стали, что и читать бывает страшно. Осипки на это еще злее зубами скрогочут да нас гнут. Потому как раньше им куда вольнее жилось. Теперь про них пишут. Пишут да по радио передают: сымают с работы и судют. Бабы вон говорят, что ежели всех их, воров, сажать, то и тюрем не хватит. А и не хватит. Где ж на них тюрем наспеешься? Видно, что так оно и есть: где-то потурили осипков, вернули людям справедливость, а потом глянули, сколько их везде, воров, да и плюнули. Я так, Гриша, думаю, что не справились с этим племенем.
— Ничего, Павла, и с нашими разберемся. До рассвета всего ничего осталось.
— Как же так вышло, что Осипок тогда, осенью, вернулся? Он же той же осенью, когда немец пришел, и вернулся в Пречистое Поле
— А как… Ушел. Бросил нас и ушел. Шкура. Мы оборону на Десне держали. Да, была там рубка… Сутки только и продержались. Полк наш обходить стали, с флангов, с боков, значит, отходить надо было. Вызвали добровольцев — в группу прикрытия. Мы втроем и вызвались: Иван Филатенков, я и он, Осип Дятлов. Мы ж тогда дружили. Вроде как. Выбрали позиции, ровики выкопали, установили пулеметы. Ребята нам патронов побольше оставили. Гранат. И ушли. Роты ушли. Снялись с позиций и ушли. А мы остались. Ждем. За Десну смотрим. Немца там еще не видать было, а уж гудело все гудом страшным. Мы с Иваном на взгорке так. Внизу Десна. И берег тот да-алеко просматривается. Осип ближе к лесу залег. И все у нас было рассчитано. Мы с Иваном перед самым бродом сидели, друг друга прикрывали, а Осип должен был ударить попозже, если немцы всё еще переправятся и начнут обходить нас по склону. Им только так и можно было нас с Иваном взять. Не ударил Осип. Мы когда с Иваном уходили, то побежали сперва к лесу, к Осипку, думали, может, раненый лежит, нас ждет. Мы ж как: договорились не бросать друг друга, если что. Вот тебе и если что. Подбежали мы к лесу, видим; пулемет целехонький стоит, цинки с лентами… Всё на месте. Только Осипа, дружка нашего: боевого, нету. Ушел, гад. Полк мы догнали только через месяц где-то. Нас уже и числить там перестали. Думали, что каюк заслону. Заслонов ведь вон сколько оставляли. Не одних нас. На каждой речке, на каждом бугорке. Да только мы одни, считай, и вернулись. Ротного нашего убило, взводного тоже ранило тяжело, на носилках несли. Докладывать пошли комбату. Комбат и не рад вроде, что мы вернулись. Глядел исподлобья. Потом спросил, стрелял ли Дятлов. Иван сказал, что стрелял. Я тоже подтвердил. И начал он нас тогда ругать за то, что не нашли Осипа. Бросили, говорит, товарища. Под трибунал, дескать, отдать вас за такие дела, да воевать некому. И правда, в батальоне штыков осталось с гулькин нос. Так что послал нас комбат в окопы. А Осипка записали пропавшим без вести.
— Ну, вот вы его на наши головушки, от начальства и оборонили.
— Эх, Павла, не брани ты нас. Хотели ж как лучше. Как же, земляк все-таки. Друг-товарищ. Думали, сами разберемся. Ладно, теперь и разберемся. Пришел час. Были мы ему с Иваном защитниками, а теперь мы ему судьи будем. Да черт бы с ним, если бы он тогда за полком тяганул! Хотя… Мы-то с Иваном, понимаешь, надеялись на негр, думали, если что, Осип прикроет. И он же знал, гад, что нам без него не выйти, если немцы поблизости где переправятся. Там еще была история… Когда уже поперли немцы, откуда ни возьмись, наших несколько человек, с десяток так, может, чуть побольше, прямо перед нами реку переплыли и к лесу по балочке побежали. Думали укрыться поскорее. А немцы поняли, что сейчас они уйдут, пулемет у самой воды поставили и — длинными очередями. Всех положили. Осипу в самый бы раз ударить по тому пулемету, это его сектор был. Всех посекли. Мы с Иваном потом по тому месту проползали, так страшно смотреть было. Вся трава в крови была. По стольку убитых сразу мы тогда еще не видели. И вот думаю я сейчас и не пойму: то ли он к тому времени ушел уже, когда окруженцы-то эти через Десну к нам… то ли смотрел, как их в балке добивали.
— Иуда, — отозвалась Павла, нарушая тишину, царившую несколько долгих минут после того, как умолк Григорий.
— Присягу забыл.
— Иуда и есть. А из госпиталя пришел в село героем. Как же! За Родину, за Сталина кровь проливал! Грудь в медалях!
— Что ж, видно, хорошо воевал.
— Воевал. Всюду поспел. И все неправда его, Гриша. Вот у меня сердце и заходится: как же так, думаю другой раз, неправдой тогда жил, неправдой и теперь разживается, и все ему ладно, все ему хоть бы что? А ежели бы, к примеру, Гитлер победил и власть свою установил? А? Нет, не пострелял бы тогда Осипок на большаке дружков своих. И через фронт бы не побег. Тогда бы он, гляди, повыше нынешнего начальником над нами сделался. Ему все едино было, что Гитлер, что Сталин. Любой власти сумел вот угодить.
— Бог с ним, Павла! Придут мужики, разберемся. Решим, что с ним делать.
Григорий вернулся на середину горницы и, глядя в темный угол, чуть подкрашенный дрожащим светом солдатской коптилки, сказал:
— Павла, гляжу я, икона у тебя. Ты что же, веруешь?
— Верую, — не сразу ответила Павла.
— И молишься? — снова спросил Григорий.
— Раз верую, значит, и молюсь.
— О чем же молишься, Павла? Какие молитвы читаешь?
— Какие жизнь подсказывает, такие и читаю. Всякие. О тебе вот все молилась.
— Обо мне?
— О тебе. Особенно когда молодая была. Ох, Гришенька, как я об тебе молилась!
Григорий покачал головой и спросил погодя:
— Правильная ли твоя вера, Павла?
— Правильная, — она посмотрела на иконы, на Григория, снова на иконы и опять на Григория. — Вон сколько лет я тебя ждала, ты пришел. Правильная моя вера. Она, может, самая правильная и есть.
Григорий снова покачал головой. Вздохнул. Заговорил, блестя глазами:
— Перед Десной село одно, помню, брали. Это когда мы уже наступали. Наш взвод в первую траншею ворвался. Обычно немцы бросали траншеи, уходили глубже. Даже трупы утаскивали. Тогда было легче. Тогда можно было осмотреться, закрепиться А когда не бросали, когда им некуда уходить было, мы прыгали им на головы, и начиналась рукопашная. В тот раз они не ушли. Видать, тоже приказ был железный — ни шагу назад. Через несколько минут от взвода несколько человек осталось. Мы с Иваном взводного своего перевязали, штыком ему немец пах проткнул, и потащили к церквушке. Такая маленькая церквушка была, меньше нашей, вся разбитая сверху. Ни куполов, ни крыши. Немцев мы вроде выбили. Но из второй линии окопов начали нас минами забрасывать. Как ударит мина где рядом — пыль красная, ничего не видно. Ползем, лейтенант кричит, лихо ему стало, весь живот немец штыком разворотил. Помер он потом, у нас, в церквушке той и помер. Глубоко штык прошел, по самый, видать, упор. И как он так наскочил, вроде верткий был мужик. Доползли. Лейтенанта положили у стены, на ризы какие-то. Иван толкает меня под руку, гляди, грворит, все размолотили, а Христос нетронутый. Поднял я голову, пыль как раз осела, а над входом в церковь большая такая икона светится. Видать, золотом покрашенная. Христос с черной бородкой, с книжечкой в руках. На нас смотрит. Как мы внизу копошимся. Вокруг по полу иконы раскиданы, вот такие, как твои, маленькие. И побольше тоже были. Иные расколоты. Иван пополз, стал подбирать. Брось, говорю, давай к двери, немцы, говорю, не зря мині кидают: покидают, покидают и в атаку пойдут. Погоди, говорит. И все на четвереньках ползает и иконки те подбирает. Наберет охапку и к стенке отнесет, сотрет пыль с каждой и сложит там. Я у двери лег, винтовку на камень положил, посматриваю, что там, снаружи, делается. Мина как ударит в стену или поверху, так гул по всему храму идет. Иван, слышу, рядом лег. Что, говорю, собрал святых? Собрал, говорит.