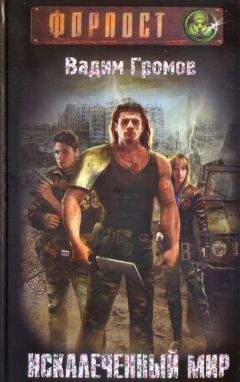Макс Сысоев - Странники
Не пугайтесь, любезный зритель, у меня в голове нет и никогда не было посторонних, с Тойнби я не разговариваю, а вышеприведённый фрагмент суть не более чем обычная для нашего повествования интеллектуальная зарисовка. Но, скажу я Вам, и без голосов всё очень-очень плохо.
Время в двадцать первом веке сильно ускорилось. За окном ранний вечер качал рыжий неоновый фонарь, светивший прямо в комнату, вил из снежной крупы белых привидений, носившихся меж многоэтажных стен и кидавшихся с разбегу на стёкла. Абсолютное зло текло по улицам, тёмными волнами колыхалось у самого подоконника, журчало в водопроводных трубах, гудело в двигателе автомобиля, проезжавшего через двор. Если б не ускорившееся время, можно было бы решить, что это всего-навсего зимние тени от голых деревьев — так медленно и плавно проникало зло в человеческие города. Но меня не обманешь. Я только и жду, что насилие постучится в дверь, что голод вырвется из-под холёных белых лиц, умащённых кремами и гелями, что мытые и одетые люди, самые гуманные и человечные в истории, перестанут прикидываться. Они жаждут крови. Прекраснейшие из людей, тончайшие и хрупкие создания ненавидят, — и не знают, кого, за что и почему.
Когда в душе находится действующая модель Преисподней (масштаб «1 : ∞»), превращающая каждую твою эмоцию в объект для собственных насмешек, когда в заднице прощупывается большое шило, а в голове, напротив, ничего не прощупывается, когда жить становится страшно, противно и неинтересно, потому что объективная действительность кажется нелепой, как самая неудачная из шуток, и опасной, словно генетически модифицированные яблоки с поперечными полосками, — что тут сказать? Психологи, например, говорят «кризис самоопределения», и я не спорю с ними. Эти тупые ишаки, эти учёные-в-дерьме-мочёные верно подметили: у меня и впрямь кризис, о-го-го какой, очень большой, его нужно срочно записать в книгу рекордов Гиннеса.
***
На самом деле я не поэт, а обычный дегенерат. Оля, заглянув в комнату, так и сказала:
— Ну и ну!.. — и поморщилась от специфического запаха, обычного для мест моего пребывания. В комнате воняло. Если Вы когда-нибудь нюхали разлагающиеся мозги, то без труда поймёте, о чём я.
— А я что? — я ничего. Я ухожу уже.
— Пьянствовать?
— Ну а почему бы и не пьянствовать? В конце концов, умеренные возлияния во славу академии и профессуры — давняя студенческая традиция, корнями уходящая чуть ли не в античность. Было бы обидно, прервись она в...
Оля ругалась, вторя моим высоким образцам красноречия.
— Андрей в твои годы уже из армии вернулся, — внушала она мне. — Стройный, подтянутый — красавец-мужчина. Все девки за ним бегали. На завод пошёл, сразу двадцать пять тысяч получать стал. А ты? — поступил в шарашкину контору какую-то... Чему тебя там учат? — только и умеешь что пить, как сорокалетний мужик, да рекламу у метро раздевать! Кому-то такой ты нужен?
А собственно, кто такая Оля? — спросите Вы. Ну, как бы это сказать... Когда от моей семьи ничего не осталось, ко мне в квартиру подселился старший брат, Андрей. Он тогда не дал мне пропасть. Оля, пухленькая и румяная, как матрёшка, была женой Андрея. Много лет мы жили вместе, но почему-то правило «стерпится — слюбится» в моём случае не сработало. Недавно у Оли родился ребёнок. Не то чтобы стало совсем плохо, но, конечно, если б в моей квартире жили волшебные эльфы Тоате де Даннан, было бы получше.
— Никаких Тоате де Даннан, — повторял я часто. — Кризис самоопределения.
Я не сделал Оле ничего плохого, а она меня ненавидела. Это было свойственно многим.
***
Сгущаются сумерки, а сумерки — это наше всё. В этот час сова Минервы отправляется на охоту за мудростью. Так покинем же моё постылое обиталище во исполнение главной цели нашего с Вами путешествия: вдоволь насладиться красотами века № 21! Рождённый веком № 20, гением человеческой мысли и пространственно-временным континуумом, он зовёт нас на гудящие сумеречные улицы, к расписанным граффити стенам, к ночным бабочкам в латексных одеяниях, к суровым торговцам ангельской пылью, к бродягам, разводящим костры под красивыми эстакадами, к дорогим и бесполезным автомобилям, ко многим, многим удовольствиям, отнимающим свободу.
За заиндевевшей дверью подъезда высотные кубы и параллелепипеды, покрытые окнами квартир, источают электрический свет. Пусть фальшивые виршеплёты как один твердят, что свет этот сочится оттуда, где явлено совершенство, — нам-то известно, что, заглянув за любое стекло, мы увидим то же дерьмо, что и везде.
Но фальшивых виршеплётов можно понять. Ах, что за вечер! Как бесчинствует в последнее воскресенье года дух урбанистики! Сколько всего пытается он рассказать нам, пока мы выходим из подъезда!
Сумерки сгущаются. Москва пролетает через терминатор — планетарную границу дня и ночи. Небо над нами тёмно-синее; к западу оно краснеет, а на востоке становится фиолетовым. Всё небо — три цвета, огрызок дневной гаммы, видимый нами благодаря тому, что урбанистический закат в этот вечер смог обойти «охотника, желающего знать, где».
Где? — где-то. Где-то во мгле реакторов тускло светятся урановые стержни, где-то поскрипывают гигантские валы и шестерёнки заводов, дымит ТЭЦ, валяются пачки из-под наркотических таблеток. Где-то стоят брошенными заполярные города; где-то уснули стакан, Джон Донн и Иосиф Бродский, и поезд через пустошь безвременья начал путешествие из точки «А» к точке «Б», которой нет в помине. Где-то (очень много где) играет музыка, и веселятся несвободные люди, где-то мерцает жёлтая лампочка и отражается в пустой бутылке. Разгоняются самолёты, скребут небо очень высокие дома. В унитазах плавают использованные презервативы. В частных конторах белеют гудящие компьютеры и пальцы соблазнительных секретарш. В ванне засыхает кровь из чьих-то перерезанных вен. Из гаражей доносятся звуки металла. Ближе к Владивостоку, на улицах, где уже воцарилась ночь, рядом с фонарями мигают светодиодные вывески: «Аптека. Круглосуточно». Запах сигарет из подъезда (пресловутый запах фальшивых виршеплётов), смешиваясь с ветром и снежинками, усиливает шёпот духа урбанистики, наводя на некую Мысль метафорической природы...
Ах да, женщина! Если сравнивать дух урбанистики с женщиной, то женщина эта должна быть совсем необычной: ведь чем больше автографов стоит на её фотографии, тем красивее она кажется. Дух урбанистики не только многолик, но и многослоен. Есть первый слой: клубы, бутики, плазменные панели над автострадами, пищащие в тёмных парках сотовые телефоны. А взять дореволюционный домик в центре Москвы. Жил в нём какой-нибудь граф или князь, устраивал светские рауты, балы давал и знать не знал, ведать не ведал, что через сто лет будет гореть за его окнами мёртвый свет ртутных ламп, будут замораживать воздух кондиционеры, и под противными белыми навесными потолками, скрывающими старинную гипсовую лепнину, офисные работники день-деньской будут сидеть за компьютерами, даже и не думая о дамах в пышных платьях и мазурке в залах со свечами. А взять советскую фабрику. Знал ли кто-нибудь из её строителей, что из цехов выкинут все станки и откроют в одном из корпусов супермаркет, в другом — склад, а третий и вовсе оставят пустовать на радость наркоманам? Пышным цветом расцвела внутри фабрики нежданная новая цивилизация (это вам не коммунизм), и нелепо торчащая над рекламными щитами бело-красная труба, из которой никогда уж не пойдёт дым, обросла у самой макушки антеннами ретрансляторов высокоскоростного Интернета, как обрастает опятами старый пень в лесу. Всё, всё ассимилируется; всё затопляется будущим неизбежно и навсегда.
Но ежели сдуть с духа урбанистики пыль веков, откроется подоплёка нашей сияющей техногенной цивилизации: Ахилл, гоняющий Гектора, бедную жертву обстоятельств, вокруг стен Приамова города. И Одиссей, плывущий по юному солнечному морю, чтобы отправить в тартарары женихов Пенелопы. И ковыляющий на липовой ноге мишка. И Вечный Жид Агасфер, чахнущий над золотом в тесной каморке. Приглядитесь к людям, гуляющим по постиндустриальным улицам: у них захватывает дух от того, что они живут в XXI веке, о котором столько мечтали и на который столько надеялись, — но внутри этих людей древняя тьма.
Мы живём среди антикварных автографов.
***
Я закрываю глаза, и город задёргивается спокойным серым туманом, в котором роятся цветные шарики: бледно-красные, бледно-зелёные, бледно-синие. Шарики стремятся сверху вниз по спиралевидным, параболическим, синусоидальным траекториям. Они летят мне в лицо и тают. А туман всё недвижен, недвижен... Где-то в его глубине живут волшебные эльфы. Но где? Я не пойму этого, пока не...