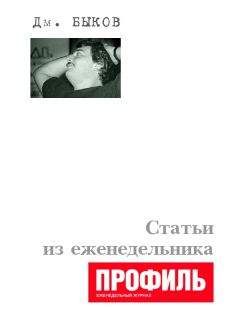Марианна Алфёрова - Лига мартинариев
Он шагнул к выходу.
— Я удаляюсь, мадам. Сам. Дабы не смущать вас своим присутствием.
Только теперь он понял, что это был вовсе никакой не знак, а глупая ловушка. Его непременно запомнят. Эта, в черном платке, и еще одна женщина лет сорока, внимательно наблюдавшая за происходящим. Если, конечно, они уцелеют. Но ведь могут и уцелеть. Могут…
Двери еще не успели открыться, а Кентис уже спешно шагнул в образовавшуюся щель. Он побежал. Потом опомнился, перешел на шаг, но не выдержал и опять побежал. Сердце, расколовшись на тысячи частиц, билось теперь в каждой клеточке его тела. Там, в автобусе, ему было весело и легко. Потому что там еще все можно было остановить. Он спрыгнул с подножки, и все сделалось НЕОБРАТИМО. Кентис то начинал дрожать, то смеялся, то выкрикивал что-то вслух, и тут же до крови кусал губы. В голове у него мутилось.
— Они будут довольны. В этот раз они останутся довольны, — бормотал он вслух.
Но эти слова не утешали а, напротив, наводили ужас. Краткое «ОНИ» внезапно приобрело двойной зловещий смысл. «Они» — это Карна и Желя. «Они» — это те, кто остался в автобусе возле матерчатой сумки.
Он мчался дальше, не разбирая дороги, ныряя в ближайшие переулки, проходные дворы, и останавливался лишь для того, чтобы отдышаться. И опять бежал. Мысль о том, что можно сесть в другой автобус, вызывала у него тошноту.
Он остановился внезапно, будто натолкнулся на стену.
Алиби! Необходимо алиби! А что является самым удобным алиби? Новое преступление! Он захихикал, находя мысль и удачной, и забавной. И огляделся. Сам не ведая как, он очутился на окраине. И прямо из-за серой в потеках стены блочной девятиэтажки выглядывал старенький кирпичный домик с крошечным садиком.
«Улица Социалистическая», - прочел он на самодельной деревянной табличке, прибитой к крылечку.
Не было никакого сомнения — перед ним был дом Евы Нартовой — ее адрес он узнал еще сегодня утром.
Это был знак — тут не оставалось никакого сомнения.
11
В детстве мне казалось, что служить высшему — самое прекрасное занятие на свете. Эти детские предрассудки, наверное, живы во мне до сих пор. Иначе, скажите на милость, за каким чертом я пошла работать в это мерзостное «Око», чтобы каждый день общаться с плачущими старушками, умственно отсталыми пьянчугами или с такими существами как Вад. Или взять хотя бы пример с Лигой. Мне понравилась их идея! Наконец моя никчемная жизнь обрела высший смысл…
— А у тебя очень мило, — сказал Кентис, просовывая голову в раскрытое окно гостиной.
И, не дожидаясь приглашения, перепрыгнул через подоконник и оказался в комнате. Как ни странно, его приход меня обрадовал. Мне даже показалось, что всё утро я ожидала именно его появления.
— Ева, да ты просто красавица, — заявил Кентис, оглядывая меня внимательно. Если не сказать — нахально. — Всегда считал, что мартинариями становятся одни дурнушки. Неужели можно с такой грудью вступить в Лигу?
В ответ на грубоватый комплимент я по-дурацки хихикнула.
— Кажется, ты меня преследуешь?
— Ну что ты? Просто мы вчера не договорили, — улыбнулся Кентис. — Ты удалилась так неожиданно.
— Мне не понравилась твоя глупая демонстрация со Стариком, — я постаралась сделать выговор как можно более кокетливым тоном.
— А, Старик! Почему-то все считают, что я его не люблю. Но люди ошибаются. Глубоко ошибаются. Я его обожаю! Наверное, никто на свете так не любит отца, как я.
— Ты над ним издеваешься.
— Нет, ни в коем случае. Я ему изо всех сил помогаю — просто из кожи вон лезу. Неужели ты этого не замечаешь?
Оранжевая занавеска с желтым узором, подхваченная порывом ветра, вскинулась вверх. Показалось, что язык пламени ворвался в комнату. От неожиданности я вздрогнула, и Кентис заметил мой испуг.
— Почему никто не подумал, как я при этом страдаю, — вздохнул Кентис. — Я причиняю ему боль — и страдаю вдвойне. Это невыносимо — мучить того, кого любишь. Не хочешь попробовать? Могу дать урок.
— О чем ты?
— Сейчас поймешь!
Штора вновь плеснула вверх, и отсвет красного пробежал по упавшим на пол газетным листам. Один сквозняком швырнуло к ногам Кентиса. Тот молниеносно нагнулся и щелкнул зажигалкой. Прозрачный в солнечном луче, язычок огня нехотя облизал край страницы и, сглотнув черную обугленную корочку, разросся на весь лист. Сизая струйка дыма растеклась по комнате. Алое пламя, уже настоящее, побежало вверх по шторе.
Я сорвала с дивана плед, решив бороться с огнем. Но Кентис обнял меня, прижимая мои руки к телу.
— Ты что, с ума сошел?! Пусти! — я сделала бесполезную попытку вырваться.
— Горит пока слабовато, — отвечал Кентис. — Подождем, сейчас огонь начнет резвиться, — он еще сильнее стиснул руки, так что я и вздохнуть не могла. — Прекрасно! Обожаю смотреть на огонь. Это меня возбуждает! А тебя?
И он жадно захватил губами мой рот. Я захныкала, как ребенок, которого обижают старшие — от жалости к себе и от чувства бессилия. Огонь, весело перепрыгивая, добрался наконец до трюмо, набросился на мои флаконы и флакончики, и вдруг фыркнул весело, поперхнувшись какой-то смесью в бутылочке. Волна нестерпимого жара ударила в лицо. И тут же я почувствовала, что отрываюсь от пола и лечу. Секунду мне представлялось, что мое «я» покинуло бренную оболочку и устремилось к заоблачным высотам, в объятия Высшего. Но после того, как я ткнулась лицом в землю на клумбе, набрав полный рот песку, до меня дошло, что мое неуклюжее тело всё еще прикреплено к не менее неуклюжей душе.
— Посмотри, какое чудесное живое пламя! — услышала я голос Кентиса над собою.
Я перевернулась и села, бессмысленно глядя на окно гостиной, где вовсю полыхал огонь. Жасмин возле дома начал жухнуть на глазах, белые лепестки цветов рыжели и сворачивались. Тут на свое крыльцо выскочил Пашка, несколько секунд он, раскрыв рот, смотрел на пожар, потом, взвизгнув по-бабьи, бросился назад, в дом.
— Если он вызовет пожарных, его конуру спасут, — заметил Кентис. — Ну а твоя пропала — это точно.
Он смотрел на меня, прищуря глаза и жадно приоткрыв рот. Он ждал чего-то. Но чего? Может быть, вспышки отчаянья? Криков ужаса и боли? Его лицо и рубашка были перепачканы сажей, а на руке, пониже локтя, вспухал волдырь. Но своя боль как будто его не занимала.
Две красные машины, воя сиренами, выкатились к дому. Из них неторопливо стали выпрыгивать люди в черных куртках с желтыми полосами. Струя воды ударила в окно гостиной. Тут только дошло до меня: всё погибло. Абсолютно всё: семейные фотографии и первая Сашкина записка, подложенная мне в портфель в девятом классе, мамины волосы, заклеенные в конверт, и кофейный сервиз, доставшийся от бабушки, сборники стихов, собираемые десять лет, среди которых есть (то есть были) редчайшие и новый телевизор, старинная кукла с почти настоящим, почти живым лицом, и новые тапочки с помпонами, школьные фотографии, где мы с Сашкой стоим (стояли) рядом, и дешевая перламутровая брошка…
Больше всего было жаль Сашкину записку. Пока она хранилась в ящике трюмо, у меня оставался кусочек прошлого, крошечный обрывок бумаги до сих пор берег теплоту его чувства. Мне показалось, что там, в доме, сгорело живое существо.
— Убийца! — завопила я и вцепилась Кентису в волосы.
Он перехватил мои руки и крепко сжал запястья. Губы его передернула улыбка.
— Успокойся, не надо так бурно. Иначе произойдет рассеивание энергии. Охладись.
И он с размаху толкнул меня в лужу меж клумбами. А сам перепрыгнул через щеточку кустов и шутовски махнул рукой на прощание…
Через полчаса пламени нигде не осталось. Мне позволили войти в дом, и я бессмысленно оглядывала черные обугленные стены гостиной и обгорелые останки неказистой, но дорогой мне мебели. Какая-то тетка забежала в дом прежде меня. Но пожарный, деловито сдвинув на затылок шлем, ухватил ее за локоть и препроводил назад к двери.
— Кто это? — спросила я в недоумении.
— Мародерша. Такие всегда являются первыми. С вами все в порядке? Может, вызвать «скорую»?
Я отшатнулась — показалось, что сейчас он, как Кентис, хищно оскалится…
— Нет? Тогда консультанта из «Ока милосердия» — у нас с ними контракт.
— О нет, только не из «Ока», - застонала я.
— А тот парень, что был с вами, где он? — пожарный попался на редкость дотошный.
— Ушел… — я огляделась в надежде, что Кентис вернется.
Сейчас он принесет мне успокоительную таблетку и стакан воды, или что-нибудь в этом роде. Странно, но я не испытывала к нему ненависти. Я была уверена, что зло он творил не из подлости, а из-за неведения и слепоты, и не было никого рядом, кто бы раскрыл ему его собственное сердце. Но озиралась я напрасно: Кентиса нигде не было видно. Зато весьма хорошо заметен был Пашка — он возвышался посреди тротуара над грудой беспорядочно набросанных вещей. Поразительно, как это он успел за недолгие минуты пожара вытащить столько скарба из своей конуры? От пожиток он и шага не смел ступить, опасаясь, что мародеры что-нибудь утащат. Едва я подошла, как он тут же набросился на меня с упреками: