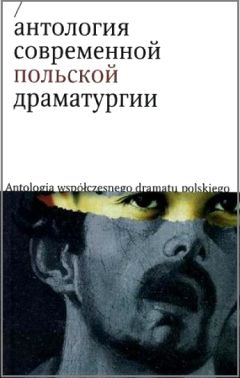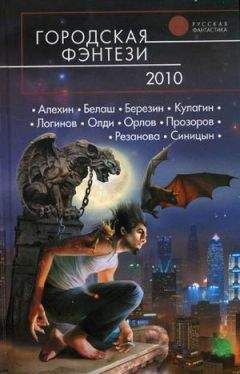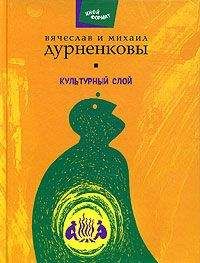Анджей Барт - Фабрика мухобоек
– И все же… надпись могла быть доброжелательной?
– Ну конечно. Иначе зачем было дарить книгу?
– Значит, можно считать, что в ваших обрывочных воспоминаниях Хаим Румковский предстает как фигура положительная?
Прежде чем ответить, Корчак на минуту задумался.
– Можно и так считать.
Борнштайн, как Регина и ждала, торжествующе воздел руки и выкрикнул:
– Благодарю вас, у меня больше нет вопросов.
Ну уж теперь, подумала Регина, им наверняка разрешат вернуться туда, откуда они прибыли. Однако судья кивнул мужчине, которого она раньше не заметила. Тот вскочил, будто его ткнули шилом в зад. Высокий, истощенный, с редкими волосами, он производил впечатление человека, готового мстить за то, что в жизни ему недоставало любви. Регина вздрогнула: страшно было подумать, чту от него можно услышать. Он же, будто прочитав ее мысли, посмотрел на нее – как ни странно, с симпатией. Так ей, во всяком случае, показалось.
– В гетто часто повторяли вашу шутку, доктор…
Голос у прокурора не был писклявым, как часто бывает у подобных типов, но и не гремел осуждающе. Обыкновенный баритон, похожий на голос Эмиля Яннингса в «Голубом ангеле».
– Говорят, вы шутливо называли себя вором, а на вопрос «почему?» отвечали, что с такой репутацией вам легче будет попасть в правление некоего сиротского приюта. Это правда?
– Иногда я позволял себе в такой манере выражать свое мнение.
– Иными словами, высказывали остроумное предположение, будто кое-кто занимается общественной и политической деятельностью корысти ради?
– Считайте, что остроумное, но – не предположение. Просто так оно и есть.
– Не сложилось ли у вас впечатления, что Румковский мог быть таким человеком? Неудачником, который брал на себя руководство приютами ради заработка, а главное – всеобщего уважения?
– Ни в коем случае. Повторяю: я увидел в нем образцового общественного деятеля. Быть может, не слишком широко мыслящего, но искреннего в своих намерениях. – Доктор прижал руку к сердцу, прося у Хаима прощения за свои слова, но Регина заметила: муж с такой силой сжал рукоятку трости, что у него побелели костяшки пальцев.
– Над могилой Адама Чернякова, покончившего с собой в Варшаве, вы сказали: «Господь возложил на тебя защиту достоинства твоего народа, а теперь ты вручаешь Богу душу вместе с даром защищать свой народ». Спустя два месяца вы отказались оставить приютских детей и вместе с ними вошли в вагон, который повез вас на смерть. А как вы думаете, о председателе Румковском в будущем кто-нибудь скажет доброе слово?
– Не мне об этом судить.
Прокурор низко поклонился:
– Благодарю вас. У меня больше нет вопросов.
Судья с трудом встал и вышел из-за своего столика. Обвинитель и защитник кинулись поднимать стул, который он при этом опрокинул. Выиграл первый: оказался проворнее, да и стоял ближе. Регина смотрела, как могучий седобородый старец подходит к едва держащемуся на ногах Корчаку и кладет ему руки на плечи, будто желая вдохнуть в него силы, а может быть, выразить свое глубочайшее уважение. Старый доктор тотчас выпрямился – ни дать ни взять офицер (он и был, как Регина слышала, майором) – и энергичным шагом направился к двери. В зале все поднялись; некоторые пытались хотя бы дотронуться до его пальто. Поддавшись всеобщему энтузиазму, Регина попробовала протолкнуться к нему, но тщетно: никто и не подумал посторониться и пропустить женщину. Когда она вернулась на место, соседний стул был пуст: Марек исчез. Регина посмотрела на мужнин затылок. Он был неподвижен и горд, если так можно сказать о затылке.
В суматохе ему удалось выйти из зала. Те, кто стоял в коридоре, тоже норовили протиснуться к доктору Корчаку, и на Марека никто не обращал внимания. Теперь можно было спокойно вынуть книгу из-за пазухи и приготовиться к атаке, словно мушкетеру перед встречей с гвардейцами. Двое рослых мужчин в пожарной форме, заслоняя доктора, пытались вывести его из толпы. Дело шло медленно; в конце концов один остановился, раскинув руки, а второй пошел с доктором дальше. Мундир вызывал уважение, и, хотя коридор был широкий, никто не осмеливался пересечь линию, обозначенную руками пожарного. Марек, подождав, пока доктор Корчак отойдет достаточно далеко, нырнул под руку охранника и припустил бегом. Он знал, что остановить его никому не удастся, и, вероятно, поэтому второй раз в жизни почувствовал себя счастливым. Миновав двух сидящих на скамейке женщин, у младшей из которых были изумительные рыжие волосы, он чуть не налетел на доктора, который приостановился, услыхав, что за ним кто-то бежит. И даже улыбнулся, правда одними глазами, – но ведь улыбнулся, в этом не было сомнений. Марек вежливо поклонился и протянул книгу. Пожарный раскрыл рот, но не осмелился издать ни звука.
– Как тебя зовут? – Доктор полез во внутренний карман.
– Марек.
– А фамилия?
Мальчик заколебался, а доктор, не найдя ручки, недовольно посмотрел на пожарного:
– Найдется, чем писать, юноша?
Названный юношей пышноусый мужчина заметно смутился. Долго шарил по карманам, но вытащил только спички. Чтобы получить автограф, оставался только еще один шанс. Марек, снова поклонившись, указал на двух сидящих в коридоре женщин, и доктор одобрительно кивнул. Рыжеволосая оказалась очень догадливой: не успел Марек подбежать, а она уже доставала из выстланного темно-зеленым бархатом футляра вечное перо. И протянула его Мареку -открытым и готовым к употреблению.
– Кто этот господин? – с улыбкой спросила вторая женщина – судя по возрасту и сходству, мать рыжей.
– Да это же Корчак! – крикнул Марек и побежал обратно, но в коридоре уже никого не было. Он не стал останавливаться, рассудив, что увидит доктора за поворотом, но и там было пусто. Книга лежала на батарее под окном; Марек взял ее и, уже не спеша, пошел дальше, по пути дергая все подряд дверные ручки, но двери были заперты. «Упорство часто бывает вознаграждено», – повторяла в приюте пани Альбинская и, как оказалось, была права: одна из дверей наконец открылась. Ни секунды не колеблясь, Марек вошел внутрь. Ничего интересного: деревянные кабинки и разбитый умывальник, над которым остался только след от зеркала. Но главное – высоко в стене было окно, за которым виднелись верхушки деревьев. Мареку ужасно захотелось выглянуть наружу. Не раздумывая, он пододвинул к стене мусорный ящик, однако даже с него, даже встав на цыпочки, мало что смог увидеть. И в очередной раз позавидовал Марысю Едвабу, умудрявшемуся с обезьяньей ловкостью взбираться туда, куда другим было не залезть. Марысь сейчас уже лежал бы себе, как кот, на узком подоконнике и посмеивался. Однако жаловаться не приходилось: Мареку все-таки виден был кусок мостовой, часть стены и два дерева. По цвету листвы он понял, что давно не было дождя, а еще заметил, что кирпичная стена во многих местах выщерблена. Ничего особенно интересного, но приятна была сама возможность заглянуть в открытое пространство. Вдобавок – верно, в награду за боль в икрах – под окном почти бесшумно проехал красный фургон, каких Марек раньше никогда не видел. Нескольких секунд хватило, чтобы он успел убедиться, что это не пожарная машина – большие белые буквы на борту скорее указывали на цирк.
– Ты что делаешь в женской уборной?
Он оглянулся и увидел одного из двоих мужчин, встретивших их по приезде. Не того, который любит смешные галстуки и который нес его по лестнице на закорках, но Марек почему-то был уверен, что ему ничего не грозит. И рискнул ответить вопросом на вопрос:
– А вы?
– Я тут работаю.
Марек слез с ящика и с притворным удивлением огляделся. Мужчине это не понравилось, и он схватил его за шкирку, правда небольно. В коридоре уже не было ни рыжей девушки, ни ее матери, которая не узнала доктора Корчака. Вместо них Марек увидел двух подозрительного вида мужчин в сопровождении огромной, на голову выше их, женщины в халате. Однако внимание его привлекла не столько разница в росте, сколько наряд одного из мужчин: на нем был красный просторный свитер с буквами на груди и смешная кепка с козырьком, наподобие тех, в каких ездят жокеи. Теперь Марек уже не сомневался, что красная машина с надписью «Кола-Коала» или что-то в этом роде, принадлежит цирку и привезла клоунов, которые развлекают людей, когда им грустно и плохо. Впрочем, долго размышлять об этом не пришлось: они уже входили в зал. Мужчина повел его на прежнее место; за шкирку, правда, больше не держал. Мареку не хотелось злобствовать, но он не отказал себе в удовольствии иронической усмешкой дать понять сопровождающему, что здесь, похоже, каждый кого-нибудь боится. Тот внимательно на него посмотрел и убедился, что в глазах у мальчика не только нет страха, но и вообще никаких чувств.
Нет, это уже становилось невыносимым. Можно подумать, свидетельство самого Януша Корчака ничего не значило! Регина вынуждена была признать, что высокомерие Хаима оправданно: он не заслужил такого обращения. И судья не вмешивался – когда адвокат передал ему слова своего подзащитного, сказал только: