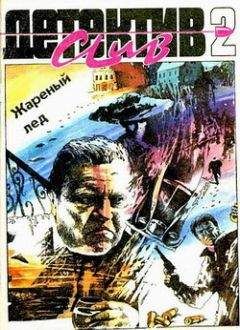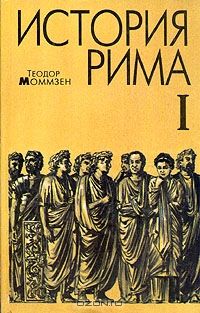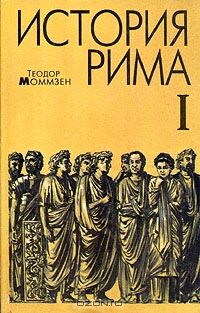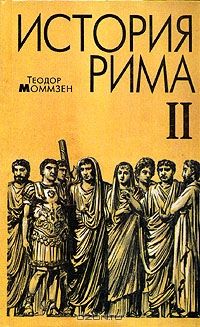Фрэнсис Спаффорд - Страна Изобилия
— Значит, вы хотите, чтобы я служила свободе, набрав в рот воды?
— Да, если сможете!
— Разговоры бывают разные. Вы что, ребенок, сами не понимаете?
— Ребенок, и притом опасный.
— Вы как будто не понимаете, какое к нам повсюду отношение!
— Рабочие Новосибирска, — сказал представитель профсоюза, — с уважением относятся к ученым Академгородка, которые трудятся не покладая рук, чтобы своими героическими усилиями обеспечить более высокий уровень жизни. Однако рабочие требуют, чтобы предательницу Вайнштейн, которая не достойна звания ученого, исключили из института и чтобы она безо всяких поблажек предстала перед законом за свою антисоветскую деятельность.
— Что ж, — сказал директор, — предлагаю отметить для себя, что рабочие испытывают сильные чувства, однако мне кажется, в данный момент нет необходимости говорить о каких-либо наказаниях. Давайте просто выскажемся, выразим наше собственное мнение. Думаю, пора перейти к голосованию.
Невнятный гул голосов.
— На голосование выносится обычный выговор, — сказал он успокаивающим тоном. — Никакой юридической силы он не имеет. Кто за, поднимите руку. Единогласно? Хорошо. Я вас провожу.
В коридоре он сказал:
— А помните, вы ведь обещали мне, что будете хорошим товарищем. — Потом добавил: — Прописки вас лишат. Буду ждать от вас заявления по собственному желанию на той неделе.
— Выгнали, — сказала она в тот вечер в Доме науки. — А вас?
— Выгнали, — согласился саркастически настроенный Мо.
Она поискала глазами в толпе Костю. Они стояли в задних рядах публики, собравшейся на фестиваль бардов, который, похоже, собирались отменить в порядке закручивания гаек, но он все равно состоялся, вероятно, потому, что все выступающие уже приехали. Деньги коллектива “Факел” пошли на приглашение в город группы поэтов, сочинителей баллад, певцов, которые теперь выходили по одному на маленькую сцену в жаркой коробке фойе Дома науки, пели песни про водку и разбитое сердце, время от времени призывая к окончанию империалистической войны во Вьетнаме. Макс был дома, в постели — ему удалось пережить этот день, пальцами на него показывали меньше, чем она опасалась. Между ними состоялся разговор, где они коснулись перспективы немедленного возвращения в Ленинград, к бабушке, и он сказал, что не против. Студентка, оставшаяся за ним присмотреть, свернулась в кресле с Зоиным “Доктором Живаго”. Между набитым залом и зимней темнотой на улице в стеклянных стенах Дома науки росли зеленые папоротники и бамбук. Они были в маленьком освещенном виварии, в бутылке, запечатанной от холода снаружи. Казалось, все происходит в последний раз — на всем лежит печать грусти. Настроение у нее было элегическое.
Выступавший бард закончил, на сцену вышел другой, немолодой мужчина, заросший, с обвисшим лицом, но с ясными глазами. У него были усы, когда-то, возможно, щегольские, однако успевшие ускользнуть из-под опеки. Выглядел он неплохо.
— Кто это?
— По-моему, композитор какой-то, песенки к фильмам сочиняет. Или что-то в этом роде.
— Добрый вечер, — сказал бард. — Дайте-ка я немножко настроюсь. — Он завозился с гитарой, нервничая. — Ну вот, значит так. Песня называется “Старательский вальсок”.
И он принялся бренчать в ритме вальса — нехитрое бренчание; главное был его голос, звучавший поверху. Он пел:
Мы давно называемся взрослыми
И не платим мальчишеству дань,
И за кладом на сказочном острове
Не стремимся мы в дальнюю даль.
Ни в пустыню, ни к полюсу холода,
Ни на катере к этакой матери.
Но поскольку молчание — золото,
То и мы, безусловно, старатели.
В полном соответствии со словами в зале действительно стало очень тихо — все необъяснимым образом стихли, до такой степени, что трудно было поверить: тут находится пара сотен живых, дышащих людей. Наверно, все затаили дыхание. Бард пел:
Промолчи — попадешь в богачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
Снова бренчание, проигрыш. Это еще не все. Она вытянула шею.
И не веря ни сердцу, ни разуму,
Для надежности спрятав глаза,
Сколько раз мы молчали по-разному,
Но не против, конечно, а за!
…а тут, к ее сильному раздражению, рядом с ней появился кто-то вкрадчивый, требуя внимания. Это был Шайдуллин, несомненно только-только из Института экономики, где проводил собственную чистку. Его бритая голова сияла. Только не это, не очередное протокольное наступление.
— Хотел вам кое-что сказать с глазу на глаз, — прошептал он. — Чтобы вы знали: наш Костя стучит.
— Что?
— Стучит. Захаживает в Пятый отдел для бесед. Вот так — извините. — Он отошел.
…Потому что молчание — золото.
Промолчи, промолчи, промолчи!
Промолчи — попадешь в первачи!
Промолчи, промолчи, промолчи!
Ах, Костя, подумала она, ах, Костя; ну конечно, вот и он, появился со зловещей неизбежностью кошмара, пробирается к ней сквозь толпу, а сам улыбается, улыбается. Она сделала каменное лицо, подняла руку перед грудью, стоп, покачала головой, медленно, решительно. Он начал меняться в лице, но она отвернулась, снова принялась смотреть на барда. Потом подумаю. Потом погадаю, поплачу.
И теперь, когда стали мы первыми,
Нас заела речей маета,
И под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды, от боли, от голода!
Мы-то знаем — доходней молчание,
Потому что молчание — золото!
Ох, закроют они все, что только можно закрыть, после такого, думала она. А вы, друг мой — с вами что станется?
Вот так просто попасть в богачи,
Вот так просто попасть в первачи,
Вот так просто попасть в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
Конец. В зале по-прежнему стояло молчание, завороженное, ошеломленное. Она поднесла ладони друг к дружке и начала хлопать в тишине, пока не присоединились другие, еще, еще, так что под конец аплодировали добрые три четверти слушателей. Не все. Некоторые смотрели, не отрываясь, с отвращением, а у некоторых был такой вид, будто они делают заметки. Шайдуллин, вернувшийся в дальний конец зала, был неподвижен, словно железный столб. Бедняга, подумала она, неужто ты по-прежнему считаешь, что это можно исправить?
А там, на сцене, Саша Галич смеялся, как человек, освободившийся от давнишнего бремени.
3. Пенсионер. 1968 год
У ограды в конце дачного участка стояла скамейка, обращенная к пшеничному полю. Иногда по тропинке на поле подходили гуляющие и, обнаружив там бывшего Первого секретаря, просили разрешения с ним сфотографироваться. Сегодня на тропинке никого не было. Вокруг ни души — лишь серая августовская жара, да сам он, в рубашке и шляпе, со своим коротковолновым приемником и магнитофоном, который подарил ему сын, чтобы он записывал свои воспоминания. У его ног расхаживал, скребя землю, ворон Кава. Когда его только сняли с должности, он ожидал, что ему разрешат заниматься партийной работой хотя бы на самом низовом уровне, вернуться в местную ячейку или комитет, или как они там теперь называются. Ему следует знать как, да только пока он сидел на своей плодоносящей верхушке, вся организация успела много раз смениться. У него остались одни ностальгические воспоминания о том, как проходили собрания вначале: комната с голыми бетонными стенами, лампочка без абажура, недавно обучившийся читать секретарь гордо спотыкается на длинных словах, читая повестку; и он надеялся, что снова увидит что-нибудь подобное, если ему опять разрешат присоединиться к рутинной работе: рисовать транспаранты к Первому мая, выступать с речами в красных уголках, посещать детсады, разъяснять передовицы “Правды” рабочим в конце смены. (Секрет состоял в том, чтобы их рассмешить). Но ничего такого не произошло. Повсюду разошлись слухи — его списали на свалку истории. К нему нельзя было приближаться. Нельзя было разговаривать с ним, писать ему, звонить; и хотя время от времени издалека доносились вести о том, что его бывшие соратники по-прежнему помнят о нем, по-прежнему берут его в расчет, напрямую этого ему никто не сообщал. Последствия просачивались к нему в виде каких-нибудь мелких изменений в распорядке, по которому он жил, или поддержки, оказываемой его сыну.
Так и тянулись дни, невероятно длинные и невероятно пустые. Поначалу он, как сумасшедший, занимался огородом, сажал длинные грядки овощей, возлагая на них большие надежды, подрезал и удобрял от зари до зари, прерываясь только тогда, когда Нина Петровна звала поесть, — но через какое-то время это надоело. И потом, голову такими вещами не заполнишь. Раньше он всегда, стоило появиться сомнениям, брался за работу. Стоило появиться неприятным воспоминаниям, он брался за работу, говоря себе, что лучший ответ на любой просчет в прошлом — поправить что-то в будущем. Будущее было его личным выходом, а также общественным долгом. Работа во имя будущего позволяла смиряться с прошлым, а значит, и с настоящим. Но теперь никому его обещания были не нужны. Часы зияли пустотой. Слишком много времени на размышления и никакой возможности откинуть эти мысли в сторону, окунувшись в работу. Теперь он не мог избавиться от того, что приходило ему в голову. Мало-помалу, без какого-либо порядка, из глубин всплывали вещи, которые ему совершенно не хотелось вспоминать: всякая гадость, прошедшие часы и минуты, о которых никому и думать не стоит, покидали свое место в забытых уголках и поднимались, заполняли голову, как грязь во взбаламученном пруду, поднявшись со дна, мутит чистую воду наверху. Он, как мог, старался держать мысли в порядке, ведь жалость к себе отвратительна; к тому же у него перед глазами всегда стоял пример Нины Петровны с ее большевистским спокойствием. Если она смогла вынести эти перемены в их жизни, перемены в своих обязанностях, без единой жалобы, то и он непременно справится. Сумеет починить свой умственный защитный механизм, будет одолевать эту жизнь, день за днем. Однако теперь он понимал, почему, если верить слухам, этот матерщинник Фрол Козлов, туша эдакая, когда умирал, дошел до того, что позвал попа. Не дай бог ему самому проявить такую слабость; однако теперь ему было ясно, что в этом что-то есть, в этом желании очиститься от всего, чтобы все это от тебя убрали, как по волшебству, чтобы можно было уйти из этой жизни таким же невинным, каким пришел в нее. А все это проклятое безделье — вот в чем беда. Козлов, видно, тоже лежал в постели все эти месяцы после инсульта, не мог ничего делать, только думал. Наверное, надо было его навестить. Теперь уже поздно — все поздно, остается лишь тащиться вперед, день за днем. Порой борьба у него в голове представлялась ему до того не связанной с миром вокруг, где ничего не происходило, что казалось, будто все это, вся эта чертова история, вся эта громадная страна, там, за пшеничным полем, была его сном, из тех особенно запутанных, давящих горячечных снов, когда все силишься выстроить по порядку их части, но никак не можешь; как будто Советского Союза вообще никогда не было, разве что в его воображении, а было только это русское поле, заросшее пшеницей.