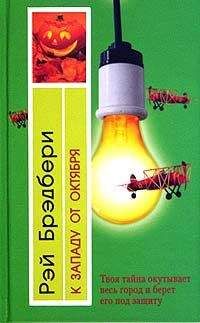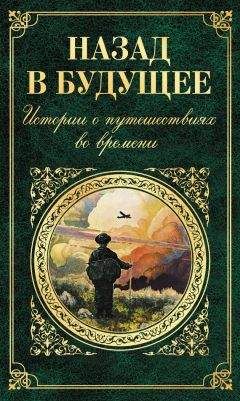Рэй Брэдбери - К западу от Октября (сборник)
Под грозовым небом они подъехали к воротам кладбища Пер-Лашез. Массивные ворота уже закрывались. Медсестра достала пригоршню франков. Створки ворот застыли на полпути.
Среди десятка тысяч надгробий можно было побродить в тишине. От такого обилия холодного мрамора, от такого множества потаенных душ у старой сиделки началось головокружение, разболелось запястье, а левую сторону лица обдало внезапным холодом. Противясь недомоганию, она тряхнула головой. И они пошли дальше меж могильных плит.
– Где мы устроимся на пикник? – спросил он.
– Где угодно, – ответила она. – Только с оглядкой! Как-никак, это французское кладбище! Кругом одни циники! Полчища себялюбцев, которые сжигали людей на костре только за их веру, а потом сами горели на костре за собственную веру! Так что выбирай, где тебе больше нравится!
Они продолжили путь.
– Первое надгробье в этом ряду, – кивком указал старик. – Под ним – пустота. Смерть окончательна и бесповоротна, нет даже шепота времени. Второе надгробье: женщина, втайне верующая, любила мужа и надеялась соединиться с ним в вечности… здесь ощущается шорох духа, движение сердца. Уже лучше. Третья плита: писатель, строчил детективы для какого-то французского журнала. А сам больше всего любил ночь, туман и старинные замки. У этого камня даже температура подходящая, как у доброго вина. Вот здесь мы и присядем, голубушка: ты откупоришь бутылку шампанского – глядишь, и скоротаем время до поезда.
Она с радостью протянула ему стакан:
– А тебе не вредно пить?
– Можно пригубить. – Он принял стакан из ее рук. – Только пригубить.
Немощный пассажир чуть не «умер» на выезде из Парижа. Вагон заполонили интеллектуалы, посетившие цикл семинаров на тему «тошноты» Сартра; воздух истощался и кипел от их разглагольствований о Симоне де Бовуар[4].
Бледный старик еще больше побледнел.
Вторая остановка после Парижа – и еще одно нашествие! Экспресс атаковали немцы, шумно ниспровергающие дух предков, не отягощенные политическими принципами. Некоторые даже размахивали книгой под названием «А был ли Бог дома?».
Призрак вжался в свой прозрачный скелет.
– Ох! – вскричала мисс Минерва Холлидей и побежала к себе в купе, чтобы тут же вернуться и обрушить на него охапку книг.
– «Гамлет»! – зачастила она. – Тут есть про тень его отца, помнишь? «Рождественская песня»[5]. Целых четыре привидения! «Грозовой перевал»[6] – ведь Кэти возвращается, верно? Ага, «Поворот винта»[7] и… «Ребекка»[8]! А вот и моя любимая – «Лапка обезьяны»[9]! Что ты выбираешь?
Но пассажир-призрак не вымолвил ни слова. Его веки были сомкнуты, а губы запечатаны льдом.
– Погоди! – вскричала она.
И раскрыла первую книгу…
Гамлет стоял на стене замка, слушая речи своего отца-призрака; Минерва Холлидей читала:
– «Так слушай… Уж близок час мой, / Когда в мучительный и серный пламень / Вернуться должен я…»
И дальше:
– «Я дух, я твой отец, / Приговоренный по ночам скитаться…»
Она не останавливалась:
– «Коль ты отца когда-нибудь любил… О боже!.. Отомсти за гнусное его убийство».
И опять:
– «Убийство гнусно по себе; но это / гнуснее всех…»
Экспресс летел сквозь сумерки, а она читала последний монолог призрака отца Гамлета:
– «…Но теперь прощай!.. / Прощай, прощай! И помни обо мне»[10].
Она повторила:
– «…помни обо мне!»
Призрак в Восточном экспрессе задрожал. Она сделала вид, что ничего не заметила, и взялась за следующую книгу:
– «Начать с того, что Марли был мертв…»[11]
А Восточный экспресс грохотал по вечернему мосту над невидимой рекой.
Ее руки, словно птицы, порхали над книгами.
– «Я – Святочный Дух Прошлых Лет»[12]!
И потом:
– «Повозка-призрак выскользнула из тумана и с цоканьем скрылась во мгле…»[13]
Не раздался ли поблизости едва уловимый цокот конских копыт – где-то в горле призрака-скитальца?
– Все бьется, бьется, бьется под досками пола старое сердце-обличитель![14] – негромко воскликнула она.
И тут – как прыжок лягушонка. Послышалось слабое биение пульса – впервые за последний час с небольшим.
В коридоре немцы палили из стволов безверия.
А она лила бальзам:
– «Негромкий, протяжный и невыразимо тоскливый вой пронесся над болотами»[15].
И эхо того воя одиноким криком вырвалось из души ее попутчика, стоном застряло в горле.
Сгущалась ночь, высоко в небе плыла луна, а где-то внизу ступала Женщина в белом, как и читала-рассказывала сестра милосердия, и летучая мышь обернулась волчицей, а та обернулась ящерицей и взбежала по стене на бледном челе больного.
Наконец в поезде наступила сонная тишина; только тогда книга выскользнула из рук мисс Минервы Холлидей и с глухим стуком упала на пол.
– Requiescat in pace? – с закрытыми глазами прошептал старый скиталец.
– Именно так. – Она с улыбкой кивнула. – Покойся с миром.
С этими словами оба погрузились в сон.
Наконец они доехали до побережья.
В воздухе висела дымка, которая обернулась туманом, а туман обернулся ливнем, потоком слез бесцветного небосвода.
От этого бледноликий старик пробудился, пошамкал губами и воздал хвалу призрачному небу, а заодно и этому берегу, где гостили фантомы прилива; тем временем экспресс остановился под крышей вокзала, и толпа пассажиров ринулась с поезда на паром.
Стараясь держаться подальше от толчеи, призрак остался в вагоне один, как наваждение.
– Постой! – слабо и жалобно простонал он. – Как же я буду на пароме? Там негде спрятаться! Да еще таможня!
Но таможенники, увидев болезненное лицо, нахлобученную шапку и меховые наушники, быстро замахали флажками, чтобы эта робкая душа, убеленная холодом и годами, скорее поднималась по трапу.
Чтобы попасть в окружение грубых голосов, острых локтей и всеобщей сутолоки. Паром, вздрогнув, отчалил, и старая сестра милосердия поняла, что ее ледяной спутник опять начал таять.
Мимо с криками пронеслась ватага детворы, и мисс Минерва Холидей решила, что пора действовать.
– Шевелись!
Она, можно сказать, сгребла в охапку своего подопечного и потащила его в ту сторону, куда бежали дети.
– Нет! – воскликнул он. – Там шумно!
– Такой шум тебе не повредит! – Она заталкивала его в какую-то дверь. – Этот шум целителен. Сюда!
Старик огляделся.
– Что я вижу, – пробормотал он, – игровая комната!
Сиделка увлекла его в самую гущу беготни и гомона.
– Дети! – обратилась она ко всем сразу.
Ребятишки замерли.
– Сейчас будем рассказывать истории!
Дети готовы были вернуться к своим играм, но она успела добавить:
– Страшные истории – о привидениях!
И как бы невзначай указала на немощного пассажира, который бледными, дрожащими пальцами сжимал шарф на ледяной шее.
– Всем сесть! – скомандовала медсестра.
Ребятишки загалдели и стали устраиваться на полу. Они сидели вокруг призрака с Восточного экспресса, будто индейцы вокруг вигвама, и смотрели, как полуоткрытый старческий рот холодят снежные бурунчики.
Призрак заколыхался. Тогда она поспешила спросить:
– А вы верите в привидения?
– Да! – вразнобой закричали дети. – Верим!
Тут призрак с Восточного экспресса приосанился. Его туловище окрепло. В глазах промелькнули крошечные, словно высеченные огнивом, искорки. На щеках зарозовели зимние бутоны. Дети подтягивались ближе, и с каждой минутой он делался выше и свежее. Палец-сосулька обвел детские лица.
– Сейчас… – зашелестел голос, – я… расскажу вам страшную историю. Хотите послушать про настоящее привидение?
– Хотим, хотим! – закричали дети.
И призрак повел свой рассказ; бледные уста, дыша туманами, притягивали дождливое марево; дети сбились в тесный кружок, который, словно догорающий костер, дарил ему блаженное тепло. Во время его рассказа сестра Холлидей, отступившая к дверям, видела то же самое, что видел ее спутник по ту сторону морских вод: белеющие тенями скалы, меловые скалы, спасительные скалы Дувра, от которых не так уж далеко до зазывного шепота башен, сводчатых подземелий и укромных чердаков, где испокон веков обитали призраки. Не отрываясь от этого видения, старая медсестра невольно потянулась к термометру, торчавшему из нагрудного кармана. Пощупала у себя пульс. На какой-то миг ей в глаза ударила темнота.
Тут раздался детский голос:
– А сам ты кто?
Кутаясь в невидимый саван, бледноликий пассажир напряг свою фантазию и дал ответ.
Только гудок перед швартовкой прервал долгую историю полночной жизни. За детьми стали приходить родители, чтобы увести их от старого джентльмена с туманным взглядом и едва слышным, пробирающим до костей голосом, который не умолкал до тех пор, пока паром не прижался боком к стенке причала; когда мать с отцом забрали последнего упирающегося мальчугана, старик и сиделка остались наедине в детской комнате, а паром дрожал сладостной дрожью, как будто тоже внимал рассказу о ночных ужасах, не пропуская ни слова.