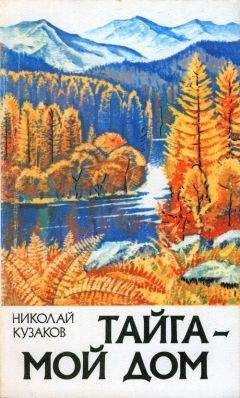Олег Корабельников - Башня птиц. Авторский сборник
Приятели улыбнулись. Они презирали людей. Они полагали, что нужно покупать только вечные вещи, лишь то, что уже выдержало испытание временем.
Дома он заставил друга раздеться. Тот, смущаясь, выполнил приказание и, дрожа от холода, встал на четвереньки посреди комнаты. Рыхлое его тело, хрипящее дыхание, слабые руки, обвисший живот вызвали улыбку жалости и презрения. Реставратор налил ему водки, тот выпил, потея и стуча зубами о рюмку. Пришлось выпить еще. Друг то и дело падал животом на пол и засыпал. С уголка рта стекала мутная слюна. Он был просто вдребезги пьян. Метаморфоза не наступала.
Реставратор посмотрел на него, еще раз подумал о несовершенности человека и о своей собственной исключительности и привычно ушел в другое бытие: превратился в стол.
Когда друг протрезвел, то увидел, что в комнате никого нет, а стоит только стол и скалится двуглавыми орлами. Это разозлило его. Он оделся, вымылся на кухне, посидел в кресле, думая о разном.
Вскоре позванивающий хрусталь люстр, плавные повороты фарфоровых пастушек, золоченый багет, шелк обивок, гобелены, тисненая кожа книг сказали ему вслух то, о чем он мечтал эти годы.
Он решил убить стол и присвоить все его вещи.
В чулане с инструментами он нашел плотницкий топор, долго примеривался, замахивался — и со всей силы ударил по полированной поверхности. Красное дерево дало трещину.
Стол видел все это, но у него не было возможности да и желания предотвратить удар. Он ощутил, как тело его разваливается на куски, теряет целостность, как оно раздробляется, рассыпается, расчленяется. Боли не было.
Человек уронил топор и убежал в дальнюю комнату. Ему вдруг представилось, как обломки дерева и осколки превращаются в изрубленного человека, — и ему стало жутко.
Но, успокоившись, он рассудил, что все не так уж и страшно. Давид, тезка знаменитого мастера, звякнул мечом, напольные часы проиграли гавот. Он осторожно заглянул в комнату. Стол лежал разрубленный, изуродованный, ручки от ящиков в виде перевитых полотенец отлетели в сторону. Человек ходил по комнате и ласкал вещи, приручал их к себе.
Рассортировав вещи, он взял с собой то, что мог унести сейчас, за остальными решил приехать завтра. Он совсем не думал о возможном возмездии, трупа не было, а изуродованный стол мог только запутать следствие. В последний раз оглянувшись на комнату, он увидел то, что так не хотел видеть.
Бронза размягчалась на глазах, она приобретала цвет плоти, красное дерево растекалось темной кровью, осколки стола превращались в мертвое тело человека.
Первым желанием было убежать из дома, но потом он рассудил, что оставил слишком много улик, и вернулся с порога, дрожащий, бледный, страдающий одышкой и болью в сердце. Но прикоснуться к останкам так и не смог.
Тогда, в смятении, он выпил прямо из горлышка оставшуюся водку, разделся, встал на четвереньки и попробовал еще раз превратиться в вещь, уйти от ответственности, уйти от людей и человеческих законов.
Чугунный Давид шагнул с постамента, мягко прикоснулся к его склоненной шее игрушечным мечом. Медуза приоткрыла веки, и человек ощутил, как деревенеет его тело, стекленеют глаза и голова наливается свинцом.
Сквозь узкую прорезь он увидел себя отраженным в застекленном шкафу.
На полу стояли часы в пузатом футляре, и тяжелый свинцовый маятник равномерно отбивал секунды.
Возможно, последние.
О свойствах льда
Много лет спустя, постаревший, с лысиной, дерзко забравшейся на недоступную ранее высоту, лежа на продавленном диване, он вспомнит день, когда растаял лед.
Дивану будет столько же лет, сколько ему, он так же полысеет и померкнет, и так же будет стоически вздыхать, когда на него опустится тяжелый груз. Комната, преждевременно постаревшая, с кружевом паутины и припорошенная пылью по углам, будет так же покорно поддерживать стеллажи из неструганых досок с двумя десятками книг, так же терпеливо нести в своем чреве его самого, и грязный фланелевый халат, и штангу, огромную, как паровозные колеса, и чугунные гири, великолепные и грозные, как ядра царь–пушки. Он сам сколачивал стеллажи, сам шил халат, сам вытачивал штангу и тот велосипед с погнутой рамой собирал сам, и брезентовый катамаран с дюралевым скелетом, что покоится на балконе, — делал сам. Но самая большая заслуга его была в том, что именно он сам сделал себя. Сначала вылепил из мяса и костей, потом создал изо льда и долго существовал в двух ипостасях, пока лед не растаял и он не остался один.
То время, когда он был обыкновенным мальчиком, осталось далеко позади, и он не верил старым фотографиям, на которых щуплый белесый мальчик сидел на скамье у бревенчатого заплота. Ибо временем своего рождения он считает тот день, когда принес с завода штангу, выточенную по всем правилам токарного искусства, обещавшую переродить его и создать нового человека. Занимался он упорно, по пять часов в день, свято соблюдая правила и законы, согласно которым тело его стало разбухать, наливаться свежим соком, наполняться твердой мягкостью мышц, буграми перекатывающихся под кожей, как поросята в мешке.
С этих пор он уединился и начал новую жизнь. Он много читал, в основном книги по философии, и развитие его ума порой опережало рост мышц. Никто не имел права беспокоить его в часы занятий, а если и приходил кто–нибудь, то обрекался на ожидание той минуты, когда хозяин закончит упражнения и благосклонно обратит внимание на гостя. Беседы его стали сводиться к одному: во всем городе, а пожалуй, и на всей земле, нет такого умного и целеустремленного человека, как он. Только он постиг истинный смысл жизни, а все люди пошлы, суетны, бездарны и слабы. Он много раз доказывал это тем, что в декабре купался в проруби, в любую погоду совершал длительные пробежки по городу, просиживал часами за книгами, с гордостью не находя в них ничего нового, ибо до всего давно додумался сам. Он ушел с завода и теперь раз в три дня уходил сторожить склад, где даже тараканы дохли с тоски.
Свое собственное величие подавляло его. Он достал маленький телескоп и теперь каждую ночь рассматривал небо, такое же величавое и бесконечное, как он сам. С помощью оптики он взлетал к звездам и подолгу парил между ними, одним мановением зажигая туманности и высекая искры из белых карликов. Только в эти часы он чувствовал себя на своем месте и жалел об одном, что время богов кончилось и ему не с кем помериться силами. Он открывал законы природы, отменял законы людей, ставя себя выше всех, и мог бы завоевать весь мир, если бы этот мир хоть чем–нибудь понадобился ему. Иногда он направлял объектив телескопа на противоположный дом, и незримо присутствовал при чужих ссорах и поцелуях, трапезах и болезнях. В гордыне своей он присвоил себе эпитеты Бога: всезнающий, всепонимающий, всевидящий и всемогущий.
В первые годы своего величия ему нравилось доводить людей до ссоры, а потом бить их, хоть пятерых сразу, неторопливо и больно, но потом он перестал делать это, ибо победа над телами уже не приносила ему сладкого чувства собственно превосходства. Тогда он ударился в психологию, создав всю науку заново, и тут же использовал ее на своих приятелях. По законам своей логики он доказывал им, что они подлецы, глупцы и небокоптители, что жизнь их напрасна, и попытки добиться лучшего смехотворны и жалки. Ему нравилось видеть смущение собеседников, растерянность их и беспомощность. Он изобличал грехи своих приятелей в присутствии их жен и, несмотря на семейные скандалы и разводы, считал, что поступает правильно и что только любовь к истине движет им.
Познав все, он решил испытать себя в искусстве, обоснованно полагая, что с такой же легкостью, с какой он поднимает штангу, он мог бы писать нетленные полотна. Он справедливо решил, что рисовать совсем несложно, нужно только выбрать сюжет, очертить необходимое линиями и раскрасить то, что получилось, в разные цвета. Все ему известные картины были выполнены именно так, кроме линий и красок он там ничего не находил, а значит, ничего и не было. Поэтому он начал выбирать сюжет, достойный его самого и его комнаты, на стене которой и пожелал увековечить фреску.
Он хотел выбрать бескрайнее море, но побоялся морской болезни и докучливых приливов, из–за которых приходилось бы часто вытирать пол; потом остановился на звездном небе, но рассудил, что, обладая мощным тяготением, он притянет к себе все звезды, а это будет отвлекать его от мыслей. Следующей идеей было изобразить просторы Земли с лесами и городами, но когда он представил себе, что тысячи людей, обитающих там, столпятся у кромки картины, чтобы посмотреть на него, то ему стало муторно. Рисовать зверей он тоже не захотел, ибо что за радость день и ночь вдыхать их вонь, и заботиться о зайцах, чтобы их не съели волки, и о волках, чтобы их не подстрелили браконьеры, и о браконьерах, чтобы их не посадили в тюрьму, и так до бесконечности. Цепь взаимоотношений в живой природе не занимала его, ибо он сам был концом и началом любой цепи.