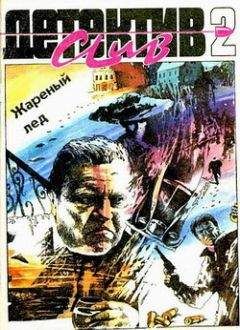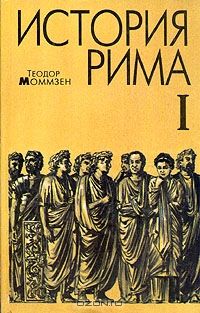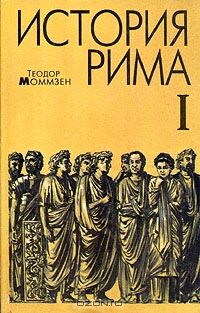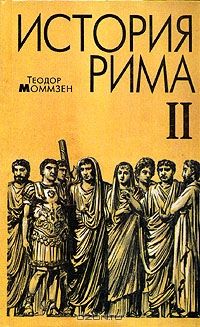Фрэнсис Спаффорд - Страна Изобилия
— Сестра, — позвала она.
Голос ее звучал, как писк. И еще раз. И еще. Наконец пришла Инна Олеговна, вытирая красные руки о полотенце.
— Что такое? — спросила она.
— По-моему, что-то не так, — прошептала Галина.
Сердитая тетка вздохнула и стала копаться у Галины в том месте, для которого та так и не придумала подходящее имя, такое, чтобы удобно было произносить.
— Все в порядке, — сказала она. — Просто вторая фаза пришла. Так и надо. Тебе еще, наверно, часа два.
Еще, наверное, два часа. Еще, наверное, 120 минут. Еще, наверное, 7200 секунд. Вечность, целая вечность.
— Прошу вас, — сказала Галина, — пожалуйста. Дайте мне что-нибудь. Это мучение. Я больше не могу.
Нет у нас ничего такого, — сказала сердитая тетка. — Это против правил. Ты что, больная, что ли?
— Но я больше не могу, — Галина беспомощно заплакала, не всхлипывая, из внешних уголков глаз потекли слабые струйки. Вместе с соленой водой из нее капало все самое ужасное: предательство тела, разрушенные планы, полнейшее одиночество. — Не могу, — плакала она. — Не могу, не могу, не могу.
— Что значит — не могу? — сказала Инна Олеговна. — Надо — значит, надо. Нечего реветь, слезами тут не поможешь. Главное — правильный настрой. Так что соберись и давай, дыши правильно, а то ребенок помрет.
Да, эта игра ей была знакома. Это всю жизнь выдавали за средство от всего. “Делай вид, что все вокруг не так уж плохо”. Если плачешь, делай вид, что улыбаешься. Если озадачена, делай вид, что уверена. Если голодна, делай вид, что сыта. Если видишь путаницу, делай вид, что существует план. Если сегодня все паршиво, делай вид, что наступило завтра. Если больно — психологическая подготовка. Руки мясников работали без устали. Черные пятнышки на абажуре светильника за головой у Инны Олеговны поплыли, сделались четкими. Сталактиты из черной слизи с ножками и крылышками — все это были раздавленные мухи, которых прихлопнули и оставили гнить. “Но почему я должна делать вид, что мне не больно”, — подумала она, и вдруг ее охватила такая злость, какой она за собой не помнила.
Сердитая тетка собиралась уходить.
— Сестра! — крикнула Галина, обнаружив, что боль можно перекинуть в голос, если перестать стараться, чтобы было не так больно. В крик — все разом, все это ощущение, будто тебя заживо выскребают изнутри, превращая в кровавый туннель. — Сестра!
Акушерка вернулась; вид у нее был удивленный.
— Ну, что еще?
— Мой муж, — прохрипела Галина, обнажив зубы, — секретарь комитета комсомола электроприборного завода.
— Тем более ты должна пример показывать, — сказала сердитая тетка, но на этот раз более осторожно.
— У него везде друзья. Хорошие друзья. В горсовете, в Комиссии партийного контроля. Среди них и те, кто надзор за больницами осуществляет, — продолжала она; слово “осуществляет” вырвалось с шипением. — Стоит ему только слово сказать, и неприятности вам обеспечены. Вы меня поняли?
— Это против правил…
— Вы меня поняли?
— Да.
— Тогда идите, принесите мне что-нибудь обезболивающее — Опять шипение. — Мы же в больнице. У вас должен быть морфий где-нибудь. Пойдите и принесите.
— Но…
— Никаких но. Делайте, что сказано!
Инна Олеговна поспешно ретировалась.
Да, ей вкололи немножко чего-то, что было спрятано где-то на полке, и этого только-только хватило до начала последней фазы, и тогда ее перевезли по коридору в эту психушку — родильную, и теперь ей уже плевать было на крики и вопли, она и сама добавила шуму, когда начались потуги. Девчонка лежала на соседнем столе, белая, тихая, оглушенная, все было кончено, ребенка уже запеленали и унесли; но, услышав, какие слова кричит Галина, она засмеялась. “А мать его я из квартиры выгоню, чего бы мне этого ни стоило”, — подумала Галина и приготовилась встретить свое будущее.
Нет, слышь, ребята! Правдой мудрено жить, лучше кривдой. Нас обманывают, и мы, слышь, обманываем.
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ
“ Косыгинские реформы” 1965 года привели к тому, что в карманах у директоров заводов оказалось немало денег, однако тому, чтобы остановить замедление темпов роста в СССР, отнюдь не поспособствовали. Даже согласно приукрашенным официальным данным, за время пятилетки, которая охватывала с 1966 по 1970 год, был достигнут лишь небольшой подъем на o,5 %. По оценкам ЦРУ он составлял всего 0,2 %, а более поздние пересчеты показывают, что никакого улучшения, возможно, не было вообще. Каким бы этот эффект ни был, он носил кратковременный характер; во всех отчетах, официальных и неофициальных, темпы роста впоследствии продолжали неумолимо падать, пятилетка за пятилеткой, мрачно двигаясь вниз, к нулю. Механизм роста буксовал. Левиафановы шестеренки заело. Это стало одной из причин относительной потери авторитета самого Косыгина в правительстве. Когда сняли Хрущева, они с Брежневым стояли наравне. К концу бо-х Косыгин стал всего лишь одним из министров брежневского правительства, мелкой сошкой, явно подчиняющейся безмятежно-хитрому специалисту по “организации и психологии”. В политическом смысле оказалось, что правильно было даже не пытаться.
Ибо подмога пришла оттуда, откуда ее не ожидали. В 1961 году в Западной Сибири было открыто первое месторождение нефти, а к 1969-му геологи — многие из которых были сотрудниками Академгородка — обнаружили их почти шестьдесят, и все были до краев полны нефти, пригодной для продажи. Все были более или менее приведены в действие к 1973-му, когда произошло нефтяное потрясение и цены во всем мире подскочили на 400 %. Внезапно из огромной автократии, пытающейся самостоятельно достичь изобилия, Советский Союз превратился в производителя, поставляющего нефть на мировой рынок, и посыпались нефтедоллары. Внезапно у советского руководства появилась возможность откупиться от некоторых недостатков экономики. Если колхозы по-прежнему не могли прокормить страну, продовольствие можно было потихоньку импортировать. Если народу нужны были товары потребления, можно было купить технологию для их производства, например, целый автозавод, собранный “Фиатом” на берегах Волги. Брежневскому режиму удалось добиться, чтобы в быту появились кое-какие предметы роскоши. В 1968 году в советских домах было jo миллионов телевизоров, а к концу 70-х — 90 миллионов; к этому времени у большинства советских семей появились и холодильники, а у многих — стиральные машины. Отпуска на солнечных черноморских пляжах стали обычным делом. Сигареты, водка, шоколад и парфюмерия обычно стояли на полках, даже тогда, когда там не было мяса и молока.
Однако непредвиденных нефтяных доходов оказалось далеко не достаточно, чтобы покрыть троекратные обещания, данные Хрущевым: военные затраты, по размерам достойные супердержавы, плюс изобилие для потребителей, плюс новая индустриальная революция в полном объеме. Оружие они позволить себе могли — Политбюро в порядке приоритета вкачивало доллары, полученные за нефть, в бомбардировщики, авианосцы и боевые вертолеты, — как ухитрялись и найти некоторое количество масла; однако неограниченное, утопическое изобилие, обещанное Хрущевым к 1980 году, зависело (постольку, поскольку вообще было возможно) от успешной перес тройки экономики на новом уровне технологии и производительности, а на это-то средства как раз не выделялись.
Советская экономика не перешла от угля, стали и цемента к пластмассе, микроэлектронике и автоматической системе управления, если не считать весьма малочисленных примеров их применения на военных предприятиях. Она продолжала соревноваться с тем, что капиталисты делали в р-е годы, а не с тем, что они делали сейчас. Она продолжала в огромных количествах закачивать средства и рабочую силу в сектор тяжелого машиностроения, который некогда предназначался в качестве трамплина для чего-то другого, но теперь работал сам на себя. В последние десятилетия советская индустрия существовала потому, что существовала, — империя инерции, растущая все медленнее и медленнее, и все-таки приобретающая эту скверную отличительную черту: она поглощала большую часть усилий всей экономики, нежели любая другая тяжелая промышленность в истории человечества, до того и после. Каждый год она производила товары, которые все меньше и меньше соответствовали народным нуждам, а начав производить что-либо, обычно продолжала до бесконечности, поскольку не получала никаких сигналов к остановке, кроме безжалостных команд сверху, а люди наверху безжалостностью больше не отличались — во всяком случае в сфере народного хозяйства. Система управления промышленностью становилась все более и более хаотичной, цифры, поступавшие к плановикам, все более и более дутыми. При этом промышленная деятельность, все те затраты рабочего и машинного времени, которые на нее шли, добавляли все меньше и меньше стоимости тому сырью, которое в нее вбухивали. Возможно, вообще ничего не добавляли. Возможно, меньше, чем ничего. Один экономист высказал предположение, что под конец эта система активно разрушала стоимость, превратившись в систему порчи вполне качественных материалов путем превращения их в никому не нужные предметы.