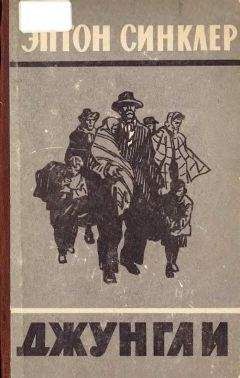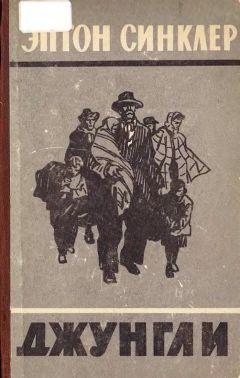Геннадий Гор - Глиняный папуас
Поднятый шлагбаум. Сверкнувшие рельсы. Поворот. Опять сосны и ели. Домики. Дорога. Снова поворот. И снова сосны.
— Вот мы и приехали, мсье Бенуа, — говорит Бородин и подруливает, чтобы проехать в ворота.
На даче сыроватый воздух. Пахнет солеными к маринованными грибами. Что за руки у бородатого хозяина! Они уже несут охапку тонко нарубленных березовых дров. Они уже затапливают печку. Они уже держат сковороду с шипящей свининой… Они уже бьют в дно бутылки с водкой так, что выскакивает пробка. Эти руки все умеют, все могут эти руки.
И вот уже и гость и хозяин сидят за столом. В рюмках — зеленоватая влага. В большой тарелке — соленые грибы, пахнущие лесной чащей. Бесподобные, хрустящие на зубах грибы.
— За ваше здоровье, мсье Бенуа, — говорит гостеприимный хозяин и, сверкая крупными белыми зубами, подымает рюмку.
Водка, как и полагается водке, крепкая и обжигает внутренности холодным и веселым пламенем. Бенуа хочется поговорить с хозяином о чем-нибудь интимном, далеком от железного детерминизма современной эпохи, о чем-нибудь таком, что обжигает сознание, как эта крепкая холодная водка. Ему хочется поговорить о старце Зосиме. Но он смотрит на стену, где висит большой портрет Энгельса, и думает, что это, пожалуй, не совсем подходящая тема для разговора. Еще высмеет его Бородин. Ведь в тот, в первый приезд в Советский Союз он видел на всех лицах вежливо-насмешливую улыбку, когда заводил разговор об излюбленном своем герое старце Зосиме.
И вот они говорят о том, о чем должны говорить два ученых, занимающихся кибернетикой.
— Вы знакомы с Норбертом Винером? — спрашивает Бенуа.
— Только по книгам. А вы?
— Я знаком. Однажды я с ним целый вечер проговорил на тему, которая меня волнует. Что несет с собой интеллектуализация вещей? Одухотворение и очеловечение их? Несет ли она освобождение человеку или, наоборот, еще большее закрепощение его?
— Вы слишком отвлеченно ставите вопрос, дорогой Бенуа. Смотря в каком обществе, в какое время. Какому классу. И потом, что означает очеловечивание вещей? Вещи все равно остаются вещами…
— Это не так. Уже первое каменное рубило было не просто камнем, а камнем, очеловеченным трудом. Обрабатывая камень, первобытный человек вложил в него часть себя, какую-то часть своего интеллекта.
— Вы выражаетесь неточно, Бенуа. Неточно и несколько туманно. Человек сделал из камня топор. Вот и все.
— Нет, не все. Из камня возникло нечто новое. В какой-то мере очеловеченное. В наше время человек создает вычисляющие, думающие машины. Это уже высшая форма очеловечивания материи — человек проецирует свой интеллект в механическое устройство, как бы внедряет себя в него.
— Допустим, — перебивает Бородин. — Хотя это и еще более туманно. Просто человек конструирует остроумный прибор… Интеллект же остается в человеке, а не уходит от него в машину.
— Как сказать. По-моему, происходит что-то вроде обмена. Человек что-то отдает машине, машина — человеку. Происходит взаимопроникание.
— Чепуха, Бенуа. Метафизика. Долой метафизику! Выпьемте, Бенуа, за трезвый рассудок! И если хотите, за здравый смысл! Для вас это понятнее!
Хозяин и гость чокнулись.
Хозяин зевнул, показав ослепительно белые зубы.
— Нам завтра рано вставать. Вы, кажется, хотели, Бенуа, пойти вместе со мной в лес за грибами? Если не возражаете, я разбужу вас в шесть утра.
В шесть утра они оба уже на ногах.
Бенуа в больших, не по ноге, резиновых сапогах. В старой куртке. В руках у него корзина.
Идут сначала по дороге к Щучьему озеру, потом сворачивают на тропу. Тропа сыра и упруга. Упруго все, на что ступает нога: мох, кочки, ветви. Все пружинит. Над соснами и елями — солнце, словно вымазанное раздавленной брусникой.
— Возвращаюсь к вечернему разговору, — говорит Бенуа. — Но это меня не так интересует, как будущее кибернетики, или, вернее, кибернетика в будущем. У вашего классика Гоголя есть превосходный рассказ «Портрет». В нем описывается, как одному художнику, писавшему портрет ростовщика, удалось не только дать изображение человека, но и перенести на холст нечто большее…
Когда-нибудь удастся создать не только «машину умнее своего создателя», как утверждает Винер, но и машину, способную вобрать в себя индивидуальность ее конструктора, его ум и характер…
— Ну-ну. Вы увлекаетесь, Бенуа… Ох, смотрите, вон там гриб. Да еще какой!
Бородин свернул с тропы. Он так увлекся, что забыл о своем спутнике. Вспомнил он о нем через четверть часа.
— О-о! — крикнул он. — Бену-а! Где вы?
Никто не откликнулся.
— О-о! Бену-а!
Начал моросить дождь.
— О-о! Бе-ну-а! Где вы?
А лес молчал, заштрихованный серой пеленой моросящего дождя.
— О-о! Бенуа! Да где же вы, черт бы вас побрал? О-о!
Бенуа он разыскал у озера уже в сумерках — усталого, голодного, промокшего насквозь, но довольного и счастливого, разглядывающего большой белый гриб.
9
Рябчиков прислушивался к тиканью ручных часов и смотрел на стрелки. Часы шли. Стрелки двигались. Когда они останавливались, он их заводил. Он заводил и будильник. И все равно он просыпался раньше того часа, когда будильник начинал звенеть. Он боялся проспать утро, первые солнечные лучи, почти речного цвета синь, окрашивавшую стекла по утрам.
Рябчиков просыпался ночью и прислушивался к ровному, спокойному дыханию спящей жены. Он боялся ее разбудить и ждал рассвета. Постепенно в комнате становилось светло, и теперь он мог видеть лицо своей жены. Ее светлые волосы, спадавшие с головы на одеяло, ее тонкий девичий нос, милые губы и морщинки под закрытыми глазами. Он долго глядел на нее, словно время и мир снова могли исчезнуть.
А широкое окно уже начинало синеть. Просыпался большой город. Улица вся сотрясалась от бега трехтонок и автобусов.
Солнечный свет уже густо падал на большую географическую карту, висевшую на стене. Глядя на карту, Рябчиков думал о том, что он еще ни разу не бывал на Кавказе. Он не бывал и в Средней Азии. Он глядел на карту, как в детстве, словно перед ним была не раскрашенная бумага, а таинственные страны, вдруг расцветшие на стене. От карты пахло садами, травой, солнцем. Воздух в комнате был синь. Своей синью он окутывал предметы. У каждой вещи было свое яркое бытие, наполненное тишиной и осязаемой предметностью. На столе стоял фарфоровый чайник. Фарфор поблескивал округло и туго. Чайник был прекрасен в своем предметном замкнутом существовании. Он был как бы вписан в утреннюю синь комнаты рукой великого мастера. На подоконнике в глиняном горшке рос цветок. Синее. Розовое. И желтое.
Цвета играли на подоконнике. Но еще чудеснее их игры был коричневый горшок. Он был, как и фарфоровый чайник, замкнут в своем вещественном бытии. К нему хотелось притронуться.
Рябчикову доставляло удовольствие притрагиваться к предметам. Ведь в больнице у вещей не было предметного, наполненного радостью бытия. Вода там была бесцветной и безвкусной. Пресной казалась еда. Вещи не имели объема. Они растворялись в неподвижном воздухе. Ощущение пресности погружало в сонное забытье. Мира не было.
А здесь в каждой вещи был мир. Здесь вещи как бы настаивали на своей предметности.
Жена проснулась. И встала. В зеркале отразилась ее округлая голая рука и белая шея. Рука поднялась, изогнулась и потянулась к платью.
— Клава! — сказал Рябчиков.
Само сочетание слогов доставляло ему невыразимое удовольствие. Он говорил «Клава», и магическое слово открывало ее всю. Она была тут. Возле него. Ее округлые руки, смеющиеся серые глаза и большой влажный, улыбающийся ему рот.
Рябчиков надел пижаму и пошел умываться. Из крана побежала ему на ладони студеная вода. Мыло мылилось, пенясь. Влажные ладони, студеные и легкие, освежали лицо и шею.
Клава подошла к плите и включила газ. Метнулось вверх синее пламя. Она поставила на конфорку кофейник.
Пока кипятился кофе и жарилась картошка, Рябчиков подошел к книжной полке и взял книгу Реми Шовена «Жизнь и нравы насекомых».
Он раскрыл книгу и прочел про себя: «Слух насекомых коренным образом отличается от нашего. Многие из них почти совсем глухие, но зато обладают чуть ли не фантастической восприимчивостью к колебаниям… Тонкость их восприятия кажется почти безграничной…»
— Митя, — сказала жена, неся кофейник. — Не время, дорогой, читать. Завтрак остынет.
Она подняла кофейник и наклонила. В чашку полилась густая коричневая аппетитная жидкость. Пахло кофе, сливочным маслом и свежей булкой.
Рябчиков помешал ложечкой сахар в чашке. На стене прыгал желтый зайчик. В полураскрытую дверь лилась синь и воздушная глубина из соседней комнаты. Мир был звонок, как удар колокола. От его тугого звона дрожали стекла в окне и даже занавеска.