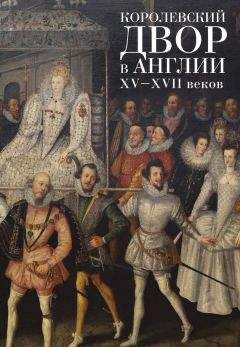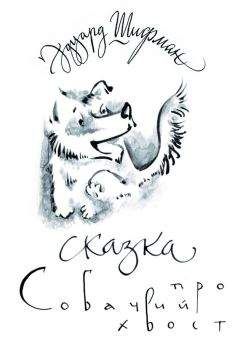Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том II (СИ)
— И, ну, я надеюсь, ты понимаешь, что это всецело конфиденциально, — прибавил Приблев. — Я тебе доверяю, но знаю и то, что мы с тобой немного по-разному… Так что не приводи с собой никаких помощников, не выноси оттуда ничего… И, конечно, никому ни слова. Хорошо?
— Хорошо, — всё так же серьёзно кивнул Юр. — Но если всё так строго, как меня туда вообще пустят?
Приблев усмехнулся с чувством некоторого самодовольства. Собственная его, скажем так, сердитость ушла, и теперь он думал, что этот разговор — и с Юром, и с родителями — был очень важен. Приблев вряд ли смог бы выразить словами, что именно стало ему понятно, но только теперь он сообразил, как тяжко было тайком от них отсиживаться в Алмазах.
Наверное, всё дело в том, что где-то внутри маленькая часть него, которую можно назвать и Придлевым, и инерцией, и любовью к семье, портила радость его жизни. И рассматривая голубей господина Солосье, и пытаясь на пальцах объясниться с бывшими невольниками лорда Пэттикота, и вычёркивая из списка Гныщевича тех, кто точно не захочет туда войти, и даже просто сидя на диване в Алмазах, он чувствовал себя виноватым. Чувствовал, что родители и Юр скажут: это игра, это чепуха, это юношеский бунт, вернись к делу. Скажут это и про Алмазы, и про голубей, и про арест наместника, и про расстрел Городского совета.
— Как тебя пустят к печам? — посмотрел он на Юра и невольно улыбнулся ещё шире. — Не переживай, я тоже напишу тебе рекомендательное письмо.
Он боялся, что родные скажут: твоя жизнь — чепуха.
Но когда они это сказали, ему нашлось что ответить.
Глава 42. Что считать предметом мечтаний
Мальвин не находил удовольствия в снисходительном оплёвывании чужих дел — пустая и развращающая это забава. Но сегодня, когда он получил-таки относительно полную картину происходящего, сдержаться и не плюнуть (хоть бы и мысленно) в Охрану Петерберга было непросто.
Организационное скудоумие простительно многим, но никак не армии.
Всегда далёкий от амбициозности, Мальвин с недоумением обнаружил в себе ту самую интенцию, которая отравляла существование хэра Ройша, вдохновляла на труд Гныщевича, гнала в дальние дали Золотце и уводила из медицинского института Приблева.
Пропустите, даже я сделал бы лучше, чем вы.
Наивность подобного крика души Мальвин сознавал в полной мере, но обстоятельства, меняющиеся со скоростью самой лихорадочной, буквально подначивали: плюнь, попробуй, возьми и попробуй, какая уже разница, когда всё леший знает как перепуталось.
Возьми себе то, что плохо лежит.
Он так и не поговорил с Тимой — о причинах и поводах, о том, что за прошедшие два с лишним дня уже втоптали в грязь сапоги, — но Мальвин был уверен, что и у Тимы приключилось оно же: неодолимое желание самому распорядиться лежащим плохо. Ничего сверхъестественного.
Сверхъестественное начинается с признания факта: Тиме удалось.
Удалось.
Тиме.
Такого беспомощного бреда, такой бесстыжей комедии не выдумал бы и граф Набедренных на четвёртой бутылке шампанского вина. Потому бреду и комедии не оставалось ничего, кроме как осуществиться в реальности.
— Вот и ты… вы. Добрый день, — размашистой походкой вывернул из-за угла генерал Скворцов, — а то и добрый вечер, что-то я совсем счёт потерял.
Мальвин сдержанно кивнул, настроившись на очередную потерю времени: у генералов нынче столько забот, что и ради минутного дела их приходится ожидать вечность.
— Составил… тьфу, вы уж простите, составили свой список? — генерал Скворцов человеком был простым, плоть от плоти казарменным, и его неловкость в обращениях обиды не вызывала.
Вызывала она, пожалуй, опять позыв снисходительно оплевать: власть, значит, Охрана Петерберга захватывает, а с выканьем-тыканьем определиться не может. Ну куда это годится — неуверенность даже в таких мелочах являть?
— Да, список готов, — ответил Мальвин, — в двух экземплярах: для вас и для господина Пржеславского. Верно ли я понимаю, что подписи одного из генералов будет достаточно?
— Чтоб я сам понимал, — хмыкнул генерал Скворцов. — В мирное время так оно и должно быть, а у нас тут — сам… сами видите. Вдруг завтра солдатня и нас четверых расстреляет?
Это генерал Скворцов так хохмил, скрывая за хохмой явную растерянность. Мальвину не к месту вспомнилось, что в семье подобную манеру суеверно осуждали: пошутишь о дурном исходе, мол, и непременно его-то призовёшь на свою голову. Источником суеверий была бабка, сама в жизни ни единого договора не подписавшая, зато направлявшая руку сначала мужа, а потом сыновей. Уповая повертеть в своё удовольствие ещё и внуками, она не стеснялась проращивать предрассудки в их счастливо чистых головах.
Мальвин знал наверняка, что в последние смутные дни семья гордится им, если не хвастает: он ведь префект, он на пороге не показывается, потому что в Академии важными делами занят, важным людям — тому же господину Пржеславскому! — помогает. С неуклюжестью купеческого самолюбия Мальвин примирился давно, как только стал её замечать, но сейчас вдруг подивился про себя той пропасти, которая пролегла между настоящими его занятиями и иллюзиями оных.
Важному человеку господину Пржеславскому он помогал всего несколько часов, сразу после вестей о расстреле Городского совета, а теперь всё наоборот — это господин Пржеславский помогает Мальвину, да к тому же сам того не ведая. Отправляясь позавчера в сторону казарм, Мальвин понял, что наилучшей тактикой будет соорудить бюрократический мираж именем как раз таки господина Пржеславского.
— Ну, коль готов список, давайте в кабинет, — звякнул ключами генерал Скворцов. — Я подпишу и вас отпущу, а то вы ж немерено времени тут у нас потратили. Всем бы такое рвение да такую дотошность!
— Благодарю.
Чистейшая правда: и дотошность бы многим не помешала, и времени Мальвин в казармах потратил немерено. В том, собственно, и была его цель.
Позавчерашний день условия задачи поставил следующие: беспокойство в городе вылилось в самую неожиданную форму — расстрел Городского совета Охраной Петерберга, причём в качестве мотивации слухи предлагали солидарность Охраны Петерберга с простыми горожанами. В отношении, мол, к новому налогу в частности и курсу действий Городского совета вообще. Это откровенное безумие требовало перепроверки, отдельным пунктом — во всём, что касается Твирина, неизвестного гражданского лица, коему молва приписывала и вовсе фантастическую роль.
Да только нельзя прийти в казармы и потребовать объяснений, кто ж их Мальвину даст. А значит, нужно изобрести основания на территории казарм находиться и, того больше, свободно по ним перемещаться — посмотреть своими глазами, послушать своими ушами, составить полную картину из непосредственных наблюдений за казарменной жизнедеятельностью. Тот же Золотце здесь бы прикинулся — кем-нибудь, кто был бы уместен, но сколь бы Мальвин таланты Золотца ни уважал, сам он похвалиться навыками перевоплощения не мог. Ему оставалось разве что показательно перевоплотиться в самого себя — и этого, как выяснилось, вполне достаточно.
Сначала, правда, вышла заминка: в позавчерашней суматохе найти хоть кого-то при внятных полномочиях было трудно, а первый же встреченный поручик разбираться с человеком, посланным руководством Йихинской Академии, не хотел совершенно, и потому, не мудрствуя, посадил Мальвина под замок. Да, прямиком в камеру до лучших времён — то есть до свободной минуты у кого-нибудь постарше званием.
Мальвин ничуть не расстроился — такого приёма он более чем ожидал. С первого взгляда — досадный проигрыш по времени, но точен ли тут первый взгляд? Мальвину виделась однозначная польза в том, чтобы переночевать в камере и начать сбор сведений позже. Если что-то собирать, осмысленно будет подождать, когда пена хоть немного отстоится — а то ведь позавчера творящееся с Охраной Петерберга не слишком понимала и сама Охрана Петерберга.
Так что, в камере очутившись, Мальвин ещё раз критически обдумал свой предлог, сделал пару пометок в блокноте и употребил выпавшую ему отсрочку на то, чтобы хорошенько выспаться. Чего, откровенно говоря, не удавалось со всей этой листовочной деятельностью уже которую неделю.
Спал он в итоге за четверых и пробудился к обеду, рассчитывать на который, конечно, не приходилось, но в том была единственная беда. Прочее же прошло гладко: за час ему сыскали моложавого капитана в своём уме, который даже принёс извинения за бессмысленное заточение и пообещал выбить для Мальвина (и его серьёзного поручения от самого руководства Академии!) аудиенцию сразу у командования. Мальвин ответил, что из командования его вполне устроит всего один человек — генерал Скворцов, например, раз уж мы и так в Южной части. Про себя же Мальвин понадеялся, что хотя бы для генерала Скворцова Академия не пустой звук и от аудиенции тот отмахиваться не станет. Надежда эта оправдалась ещё часа через три, что в имеющихся обстоятельствах было буквально подарком судьбы.