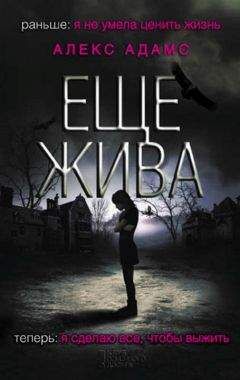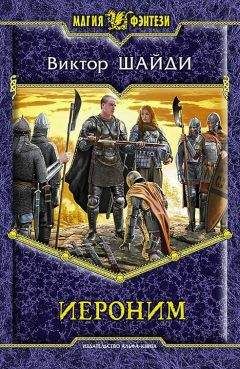Алекс Адамс - Еще жива
Холодная. Безмолвная. Вакуум.
Я сгребаю разбросанные швейцарцем вещи, аккуратно складываю их в рюкзак. Утрамбовываю. Покончив с этим занятием, я валюсь на пол, чтобы унять боль в спине. Рундуки[49] начинают вызывать у меня интерес. Я могу дотянуться до них ногами. Если снять ботинки, я сумею большими пальцами откинуть щеколды, которые удерживают крышки закрытыми во время качки. Так я и делаю. Ящики поменьше набиты баночками с детским питанием и водой в пластиковых бутылках. Мой взгляд цепляется за что-то, ранее уже виденное, хотя и не очень давно.
Ник не может меня покинуть. Я ему не позволю. Если я это делаю, значит, он в действительности не умер. Я смогу отогнать смерть деланием.
Боль в спине усиливается, когда я тянусь дальше, дотрагиваясь до этого святого Грааля, до этой тайны тайн: прямоугольный металлический ящик, окрашенный черной блестящей краской. Швейцарец нес его с собой весь путь. И сейчас любопытство буквально съедает меня. Пальцами ноги я поддеваю его ручку. Обжигающая боль пронзает мое бедро. Судорога. Я расслабляюсь, жду, когда боль отступит, затем медленно вытаскиваю ящик из рундука и подтягиваю до тех пор, пока не беру его в руки. Замка нет, только лишь серебристая защелка. Странно, что швейцарец может быть таким легкомысленным в отношении того, что явно имеет для него большое значение. Крышка легко отскакивает, как будто только и ждала этой минуты и страстно желает, чтобы я заглянула внутрь. Но это не избавляет меня от чувства вины. Я не люблю совать нос в чужие дела, однако ради швейцарца делаю исключение. В конце концов, он оказал бы мне такую же услугу.
Металлический ящик полон фотографий. Побледневшие полароидные снимки, пожелтевшие, с заворачивающимися краями фото с запечатленными на них людьми, фасон одежды которых по воле капризной моды когда-нибудь снова может стать актуальным. Люди на фотографиях разные, но все они светловолосы, нордического типа, стройные и крепкие. Родственники швейцарца, надо полагать, ибо кем они могут быть еще?
Мои пальцы перебирают листья его семейного древа. И меня поражает тот факт, что среди множества фотографий я не вижу ни одного снимка, где бы был запечатлен он сам.
Она сделала меня сильнее. Лучше.
В поисках подсказки я просматриваю фотокарточки все быстрее и быстрее. Что с ним сделал «конь белый»? Каким образом его изменила болезнь? Вот я смотрю на зернистое изображение из какой-то газеты, и мое лицо обвисает, словно кто-то высосал из него все кости. Я пытаюсь каким-нибудь образом состыковать разрозненные части в единое целое, что имело бы какой-то положительный смысл.
Джордж П. Поуп вместе с холеной невозмутимой блондинкой. Он широко улыбается в камеру, напыщенный и горделивый, это видно даже на фотоснимке, в то время как она явно предпочла бы быть где угодно, но только не там. Вот она улыбается, но это вымученная улыбка. Мне знакомо это лицо. Я видела его уже среди последних ста или около того фотографий. Я видела его в лаборатории. В лифте. Это обиженное выражение тоже уже было. Оно на лице ее брата. Или кузена, или молодого дяди. Но я готова поспорить, что он ее брат. В противном случае зачем бы он носил с собой эти воспоминания по всему миру?
Я хочу, чтобы у меня тоже были фотографии. Хочу, чтобы мои воспоминания были запечатлены на снимках. Я хочу фото себя, и Ника, и нашего ребенка, и всех детей, которых мы могли бы родить. И я хочу, чтобы у меня была возможность смотреть на фотокарточки прошлого и смеяться с того, чем мы занимались раньше. Но такого будущего у меня, наверное, не будет, потому что оно украдено этим эгоистичным мерзавцем, этим ублюдком, который, словно змея, извивающаяся кольцами в траве, ожидает минуты, когда он сможет отнять у меня то единственное, что осталось от любимого мужчины.
Я не могу плакать. Рана слишком свежа, и все, на что я сейчас способна, – это сидеть тут бездушной куклой и рвать эти фотографии в клочья. Уничтожать их так же, как уничтожен весь мир. Красть воспоминания швейцарца, как он украл мои.
И вдруг, несмотря на то что лицо у меня сухое, я обнаруживаю, что сижу в озере, произведенном моим телом. Я знаю, что это значит: мой ребенок приходит в мир.
Роды проходят тяжело, но быстро. Возможно, слишком быстро. Я не могу определить. Меня душат пот и слезы, я хватаю ртом воздух, пытаясь хоть немного уменьшить боль. Но с каждым вдохом мое тело разрывается еще на дюйм.
– Побудь еще чуть-чуть внутри.
– Но я уже готов.
– Здесь, снаружи, небезопасно.
– Я хочу увидеть мир.
– Ах, малыш, в этом мире не осталось ничего, кроме смерти.
– Что такое смерть?
– Молюсь, чтобы ты никогда этого не узнал.
Я зря приехала. Приехала к тому, кого нет в живых, чтобы родить на яхте в одиночестве.
Моя дочь появляется на свет в самую темную минуту моей жизни. Мы плачем дуэтом.
Посреди моего кошмара появляется Ник и говорит:
– Она безупречна.
Ее крохотная ладошка обхватывает мой палец. Все части ее тела находятся на положенных местах. Все есть, ничего лишнего. Я спрашиваю его:
– Не отброс?
– Нет. Она так же прекрасна, как и ее мать.
– Я ужасно выгляжу.
Он смеется.
– Женщины! Ты родила нашего ребенка. Ты никогда не была для меня прекраснее, чем сейчас.
– Ты уверен, что она безупречна?
– Абсолютно.
– Он хочет отнять ее.
– Ты ему этого не позволишь. Я знаю тебя.
– Но я устала. Я так устала, могу я сейчас поспать?
– Не сейчас, дорогая. Но скоро.
– Я прочитала твое письмо. Я тебя тоже люблю, ты же знаешь.
– Было бы легче, если бы не любила.
– Больше нет такого понятия, как «легко».
Он целует ее в лоб, затем меня. Его губы теплые. Как могут воображаемые губы быть теплыми?
Мягко улыбнувшись, он говорит:
– Это любовь. Такой любовь и должна быть.
Эфир. Так это называют любители эзотерики. Ник растворяется в воздухе и, наверное, уходит в этот эфир. Или, возможно, в моем мозгу что-то переключается, и он возвращается к нормальному состоянию. Это неважно. Ник ушел, а швейцарец вернулся, заполнив собой дверной проем. Сейчас я не знаю, что хуже, потому что он смотрит на моего ребенка, моего ребенка, с алчным выражением на своем суровом лице. Не возжелай. Я хочу убить его прямо там, где он стоит.
Он медленно идет ко мне. К нам.
– Дай мне моего ребенка, – негромко говорит он.
Я ощущаю физическое омерзение. Горячее, бурлящее, клокочущее. Я как львица, готовая разорвать ему глотку, если он позарится на то, что принадлежит мне.
– Какого черта тебе надо?
– Успокойся, пожалуйста. Ты не в себе.
– Потому что ты пытаешься украсть моего ребенка, – бросаю я зло.
– Моего ребенка.
Только сейчас он замечает, что что-то не так. Я изменила декор его пристанища, пока он охотился и занимался собирательством. То, что было для него дорогим, я использовала в качестве конфетти на празднике своей ярости. Его взгляд перемещается от одного обрывка к другому по пути к пустому ящику, затем к газетной вырезке, которую я специально положила на маленький столик.
– Что ты наделала?
– Почему ты мне не говорил, что ты родственник жены Джорджа Поупа?
– Это… были… мои… вещи. Кто дал тебе право?
– А кто давал тебе право держать меня заложницей и красть моего ребенка? Кто давал тебе право использовать Лизу в качестве какой-то сексуальной плевательницы, порезать и убить ее? Она была всего лишь девочкой. И солдат. И русский. И Ирина. Они умерли, чтобы ты чувствовал себя богом?
– Я есть бог! – орет он. – Я единственный бог, другого уже не будет.
Я слишком устала от этой борьбы.
– Я больше не верю в Бога. Почему я должна верить?
Мое дитя издает тонкий писк. Бедная девочка! Только родилась – и сразу оказалась в гуще примитивных разборок. Но эта будет не такой, как предыдущие. Эта будет до смертельного исхода.
– Дай нам просто уйти, – говорю я.
Спокойно. Самка-альфа защищает свое.
Он наклоняется к нам. Протягивает руки. Я отскакиваю настолько, насколько позволяют наручники, но этого совсем недостаточно.
– Отдай мне моего ребенка.
– Зачем? Я не могу понять, зачем мы тебе нужны? Почему мы?
От его смеха меня бросает в дрожь.
– Мне нужен твой ребенок, потому что он рожден от родителей, невосприимчивых к болезни. Твой ребенок не заразится.
Фрагменты пазла сдвигаются и переворачиваются.
– Ты ведь ищешь лекарство.
– Не будь дурой, лекарства не существует.
Он словно откусывает каждое слово и выплевывает мне в лицо.
– Мертвые мертвы, их не вернуть. Я создал болезнь, которую не победить. Я создал ее. Я. Не Джордж. Я разработал ее таким образом, чтобы изменения никогда не прекращались. Никто не может предугадать, какие хромосомы будут задействованы и во что они превратят своего носителя. Возможно, в нечто доселе невиданное. Мы все отбросы. Мы должны умереть.