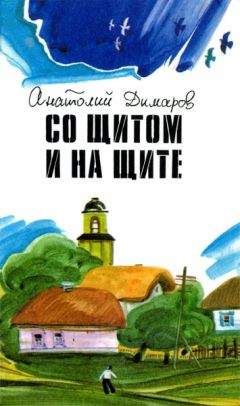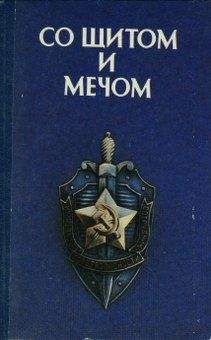Ян Гельман - 666, или Невероятная история, не имевшая места случиться, но имевшая место быть
Трубка слушала, молчала и бумажками пыльными воняла, собственный церковно-овощехранилищный дух перешибая. А в конце сказала только: «Свободны. Пока».
И так это «пока» по сердцу резануло, что и не поймешь: то ли отпущению радоваться, то ли радиоаппаратуру бытовую в деревню к родственникам матушки Марины Тимофеевны отсылать. По экономическим случаям, говорят, и церковное конфисковать могут.
И опять ярится в серном дыму над иконами да над кучей ящиков из-под капусты и под купол взбирается страшное слово «ВРЕДИТЕЛЬСТВО».
И скорбно на душе у отца Агасфертия.
* * *
Тик-так, тик-так, тик-так…
И было у портного гайсинского «верхней и разных одежды», у портного, значит из местечка Гайсин, славного и многим известного местечка, у Реб-Арона Померанценбойма, говорю, у портного, было четыре сына. Четыре красавца, четыре богатыря, четыре умника другим отцам на зависть. А звали их просто, потому что простой человек был Реб-Арон Померанценбойм. Звали их Хаим, Лейб, Мойше и Шмуль. Шмулик, меньшенький, ох не дурак!
Тик-так, тик-так, тик-так…
И чего бы не жить человеку, чего бы не жить когда есть у него верное дело – ладить «верхней и разных одежды» землякам своим и даже приезжим из Винницы и самого Екатеринослава? Чего бы не жить ему, я вас спрашиваю, если у него доброе имя и славные сыновья, есть кусок хлеба на старости лет и рюмка пейсаховки на праздник? Так нет! Грянули События. И завертело, зашумело, копытами зацокало, тачанок колесами землю заполосовало красное, белое, зеленое. Пухом перин вспоротых Гайсин как снегом запорошило. События. И сгинул старый портной гайсинский Реб-Арон Померанценбойм под шашками белыми, а может, и зелеными, а может, и красными, по-всякому бывало. События…
Тик-так, тик-так, тик-так…
Сгинул Реб-Арон Померанценбойм, и вывески его, и дома его, и козы его, и коровы, почти дойной (богатый был человек Реб-Арон), на земле не осталось. Прах да пыль.
А сыновья? Да что ж сыновья? Целы сыновья! Вот они, сыновья, вот они, красавцы, вот они, орлы! Хаим – красный командир, Лейб – красный бригадир, Мойше – красный дезертир. А младший, Шмуль, Шмулик, ох не дурак! Пока так. Ох, и тикало время, ох и тикало, и било наповал доносами, что всякой пули вернее. А только вот они, братья Померанценбоймы: Хаим-Ефим Аронович – комбриг, Лейб-Лев Аронович – главРИК, Мойше-Майкл Эрон – в Америке биржевик. Разбросало братьев по должностям, да по городам, да по странам тоже разбросало. Один младшенький Шмуль, Шмулик, ох не дурак. Пока так.
Тик-так, тик-так, тик-так…
Мельница мелет, жернова вращаются. Каждому, конечно, свое, а только слыхали, говорят: «гены». Теперь, конечно, говорят, раньше не говорили. Так вот, и вправду выходит «гены», или, по научному говоря: кому что на роду написано – то так и будет. И значит, Мендель с Вейсманом, хоть и не наши, не гайсинские были, но тоже толковые люди. Правильно считали. Вот и все сыновья старого гайсинского портного, то есть, значит, Реб-Арона Померанценбойма, по шинельному делу пошли. Хаим шинель носит, Лейб шинельной промышленностью командует, Мойше, тот, что в Америку подался, шинельными акциями торгует. А четвертый, Шмулик? В армию, с Хаимом, – здоровьем слаб, в производство, с Лейбом, – грамоты маловато, в Америку к Мойше – ехать далеко, да и что в ней есть, в этой Америке, тьфу! Младшенький, Шмулик, ох не дурак! Пока так.
Тик-так, тик-так, тик-так.
И опять беспощадное время на братьев косой замахнулось, только теперь уж без промаху. Первым брат Мойше сгинул. Пропал и нету. Ну и правильно, какие в Америке могут быть братья? Вторым брат Лейб пошел. Не те шинели в его промышленности пошивали, ой не те! С уклоном шили, во вред и по заданию. Сгинул брат Лейб. Третий черед брату Хаиму – да только тут что ж? Война.
А четвертый брат, Шмулик, он где ж? А тут! Все времена пересидел, все события перебыл и до нашего счастливого Нового дошел. Младший брат, Шмулик, ох не дурак!
Только он не Шмулик теперь вовсе, он теперь в честь славных братьев своих, которых двое у него было, в честь героев павшего да репрессированного – Шурик. Шурик Иванович Апельсинченко. Заведующий складом крючков для гимнастерок, что на Фабрике Имени Юбилея Славных Событий. Вот так.
И хоть много чего еще можно о нем рассказать, и рассказано будет, но не сейчас. Сейчас некогда Шурику Ивановичу, потому что сейчас стоит он бледный и взволнованный перед зеркалом и на праздничный скромный пиджак, дважды перелицованный, привинчивает Знак почетный «40 лет материальной ответственности». Знак этот за беспорочность и воздержание от хищения сам директор Лидия Петрович Бельюк ему как неизменно-кадровому вручил уже десять лет назад. А торопится Шурик Иванович, потому что скоро Вечер фабричный начнется. Мероприятие с традициями. И ему, Шурику Ивановичу, как традиций носителю и хранителю в президиуме, второй ряд шестое место слева сидеть надо. Памятный день сегодня у Шурика Ивановича, ему ведь сегодня новый Знак вручать будут: «Еще 10 лет материальной ответственности». И вполне даже может быть, из районного Масс Штаба кто-нибудь приедет, а раз так, то задерживать уважаемого Шурика Ивановича мы не будем. И с матушкой Мариной Тимофеевной, в супружестве Семигоевой, он разминётся и новости удивительной не узнает. Да пока и не надо. Время торопит, но терпит.
Тик-так, тик-так, тик-так.
* * *
Время, конечно, терпит. Но торопит. И спешат наши новые знакомые из числа граждан кто куда, кто почему, кто зачем.
Нелестно отзываясь о православии и слугах его, семенит в сторону двухкомнатного молельного дома секты джинсоистов-несогласников старушка Власьевна, бодрой предчувствующей походкой шагают по длинным коридорам Конторы в кабинет к Сергею Степановичу Травоядову практиканты сыска Вова Федин и Федя Бовин, торопится домой посыльная матушка Семигоева; завернув в платок расписной русский барахлоновый свою балалайку, мчит куда-то вдаль солист Вениамин Накойхер. И многие другие из остальных тоже спешат, торопятся и опаздывают, и вовремя приходят и разочаровываются. Потому что иногда лучше и опоздать, да не узнать, что спешить было некуда.
Вот и мы спешить не будем, а ознакомимся обстоятельно и неторопливо с примечательной историей секты джинсоистов-несогласников, пока пыхтя и отдуваясь взбирается на шестой этаж, где расположен двухкомнатный самостоятельный молельный дом секты, Елизавета Егорьевна, и где совсем не ждет ее духовный вождь секты старец Роберт Никодимович.
* * *
В высоких Скалистых Горах самого что ни на есть Дикого Запада теряются начала секты джинсоистов-несогласников. А было так. Через пустыни и леса шли переселенцы. Винчестеры за плечами, кольты у бедра, жены в фургонах. Ну что там еще? Дети, волы, негры. Смерчи завывали койотами, койоты вились смерчами. Индейцы все в перьях, как перина после погрома, из кустов выскакивали, боевой танец Священной бензоколонки плясали и закурить клянчили. Еще бизоны, зверобои, следопыты, могикане. Одним словом, пионеры. Прерия. И все вроде неплохо, одно плохо. Идти далеко, а воды никакой. И очень пить хочется. И вот уж когда совсем никаких физических силов нет, как жарко стало, один из переселенцев Ли Рэнглер чего удумал? Выжимать штаны-джинсы, в которых для экономии через прерию шли, чтоб, значит, выходное не портить. И появилась влага. Тут, правда, есть которые спорят, что вроде это не Ли Рэнглер был, а Леви Страус. Может быть, и так. Кто ж теперь разберет? Но только с того и пошло. Поклялись переселенцы те штаны-джинсы, что их в пустыне спасли – влагой животворной одарили, – носить не снимая. И те из них, что перводжинсовство за Ли Рэнглером признавали, те стали Лирэнглеристы, ну а другие – Левистрауссисты. И пошла между ними вражда – сначала форменная, а потом и фирменная. И к наследникам их та борьба по наследству перешла. Много лет прошло-пронеслось. Уж и Запад не Дикий, и пустыни засеяли и леса повырубили, и не то бизонов перебили, а индейцы сами вымерли, не то наоборот, а вражда та до сих пор идет. Размножилось племя джинсоистов. Секты пошли, ответвления. Кто за индийское учение «Милтонс» стоит, кто на «Рылу» болгарскую молится. Но в одном все тверды – в вере. А вера в джинсы – как влага в пустыне, в джинсах спасение! Занесло и к нам на улицу той веры ростки. Только развороту ей спервоначалу не было. Не до ответвлений. Нету! Но зато уж потом, как во всем другом мире она, вера джинсовая, на убыль пошла, начался и на нашей Улице праздник. Стали появляться одни из граждан, которые громко требовали. – Джинсы, – значит, – для всех! – А на швейном гиганте, на Фабрике Юбилея Славных Событий, как раз объединение после разукрупнения проводили и удовлетворить одних из граждан никак не могли. Вот и появились с таким безджинсовым положением несогласные.
НЕСОГЛАСНИКИ, значит. Так и оформилось движение. Во весь рост встало. С джинсовой части, от ног и выше – до несогласной. Несогласие – в голове. Т. е. с головы до ног получается джинсоисты-несогласники – стихийное движение общественного протеста. Вон как! Сначала просто ДОСТАТЬ пытались. Нету. Тогда борьбу за ПРАВО ДОСТАТЬ начали. Ну, смотрели-то на них, прямо скажем, косо. Плохо смотрели. И швейнотрудящиеся с Фабрики, непомерными требованиями замученные, и жильцы Дома № из числа движением неохваченных. Ну и другие. Прочие. И даже кого-то там утеснили: в кино не пустили. Не то до шестнадцати, не то после третьего звонка. Обида! Притеснение! Шум пошел. Вера, она страданием крепится. Началось.