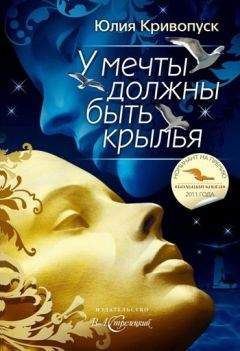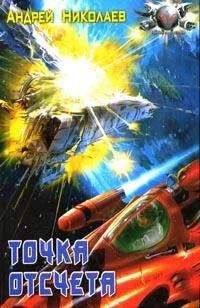Анатолий Ириновский - Жребий
Стояла напряженно-выжидательная тишина. Все четверо дверей машины были распахнуты. Чекисты курили. Тимофей Сергеевич подошел к ним.
— Что-то быстро ты, — сказал Зуев. — Сорвалось, что ли?
— Поехали! — сказал Тимофей Сергеевич, садясь на заднее сидение.
— Получилось? — не отставал Зуев.
— Цыплят по осени считают. А сначала их высиживают, — неопределенно отве-тил Нетудыхин.
Машина поехала. Все молчали. У портрета Зуев приказал водителю остановиться.
И вдруг на площади включили свет. Это произвело впечатление взрыва. На миг наступило ослепление.
— Зачем? — дико заорал Нетудыхин. — Что же вы делаете?!
Тимофей Сергеевич обхватил голову руками и сокрушенно застонал. Все увидели, что ничего не изменилось, а портрет Нетудыхина по-прежнему красуется на стене Дома быта.
— А-я-я-яй! Все рухнуло в один миг! — говорил в отчаяньи Нетудыхин.
— Ну, ладно, ладно, — успокаивал его Зуев, — не расстраивайся. Надо же было меня предупредить. Придется все начинать сначала.
— В таком психическом состоянии я уже ни на что не способен!
— Значит, будем ждать завтрашней ночи. Жаль, поторопились. Поехали!
На площади выключили свет.
И все-таки, к счастью, необыкновенные происшествия, как подметил еще Гоголь, случаются в нашей жизни. Ученые такие явления называют абсурдом, народ — чудом. Кто тут ближе к истине, трудно сказать. Дело-то вообще спорное, и читатель вправе су-дить самостоятельно.
В начале шестого утра, когда Зуев уже спал, ему позвонили домой и сообщили, что портрет Нетудыхина исчез. Иван Иванович не поверил тому, что услышал. Он мигом оделся и полетел к дому быта.
Подъезжая, он еще издали увидел на месте портрета своего подследственного знакомый облик всем известного человека. Владимир Ильич делал ручкой, и его улыбка была безоблачна, как небо над городом в это раннее июльское утро.
Зуев по-молодецки выскочил из машины. Ему доложили обстановку. В половине четвертого, когда только начало чуть сереть, портрет Нетудыхина неожиданно поплыл, превращаясь в сплошной загрунтованный холст. Минут десять спустя, на нем вдруг на-чал проявляться Ленин. Последней появилась надпись. Сначала появилась без восклица-тельного знака. Казалось, творящий словно раздумывает, стоит его ставить или нет. И наконец поставил — убедительный восклицательный знак.
Зуев, выслушав, сказал:
— Там, за портретом Ленина, на самой стене, возможно, остался еще один порт-рет Нетудыхина. Вызовите сейчас машину с пожарной службы и, пока утро, проверьте, чтобы убедиться в его полном исчезновении.
Через час Зуев, удовлетворенный тем, что на стене портрета Нетудыхина не обна-ружили, ехал в управление и прикидывал, чем руководство отметит столь успешно про-веденную Иваном Ивановичем операцию. "Хорошо бы новым званием, — думал он. — А на пенсию уйти полковником".
В управлении его поджидали с нетерпением.
Глава 22
Освобождение
Заканчивались четвертые сутки пребывания Нетудыхина в КГБ. Никто его не бес-покоил. О том, что портрет исчез, Тимофей Сергеевич, естественно, не ведал. Да и мог ли он столь самоуверенно расчитывать на чудо, когда стоял у Дома быта и молил Творца о помощи. Правда, где-то там, в закоулках души, в нем теплилась все же крошечная на-дежда, что Творец поставит Сатану на место. Однако казалась она ему безумной и неве-роятной.
Нужно было что-то предпринимать. Нетудыхин решил подождать еще сутки, а потом, если положение не изменится, начать голодовку с требованием предъявить ему в конце концов официальное обвинение. Но утром следующего дня, в субботу, Тимофея Сергеевича неожиданно повели наверх. С вещами. Так просто с вещами не дергают.
Зуев сидел у себя за столом и встретил Нетудыхина тяжелым усталым взглядом. Тимофей Сергеевич почувствовал, что в его деле, кажется, наступает перелом.
Он сел против следователя и попросил закурить. Зуев молча положил перед Нету-дыхиным пачку папирос и — зажигалку.
Задымили оба.
— Как ты себя чувствуешь? — спросил Зуев с интонацией, с которой один боль-ной обращается к другому.
— Не лучшим образом, — ответил Нетудыхин. — Желудок болит.
— Я тоже, — сказал Зуев. — Вымотался совсем. Плюнуть бы на всю эту чертов-щину да податься куда-нибудь в глухомань, где, кроме зверя, нет никого. Побродить бы по лесам, пострелять, очеловечиться — нельзя, надо заканчивать твое дело. Ну что, Ти-мофей Сергеевич? В отставку мне, говорят, еще рано. Значит, будем, наверно, мы с тобой закругляться. Кое-что необходимо уточнить, кое о чем условиться. Скажи, почему ты возвратил Ленина, а не Брежнева? — Нетудыхин вздрогнул. — Нет-нет. Ты не волнуйся, все в порядке. Это так, деталь, которую я хочу выяснить для себя.
У Тимофея Сергеевича внутри все перевернулось.
— Ленин был там первый, — ответил он.
— Я так и подумал. Ну а мог бы ты, скажем, убрать не портрет, а что-нибудь дру-гое?
Нетудыхин помолчал.
— Зачем вам это?
— Мне просто любопытно знать, мог бы или нет?
— Мог бы. Если сильно захотеть. Но злоупотреблять даром запрещено.
— Кем?
— Давайте эту тему исключим из разговора. Вы довольны результатом выезда?
— Да, вполне.
— Ну и прекрасно. Теперь я жду, когда вы выполните данное мне слово.
— Я знаю. Я помню. Но тут вот какая, понимаешь, закавыка: мы тебя выпустим, а портрет твой снова появится. Что тогда?
— Теперь он уже не появится.
— Ну а вдруг?
— Вы хотите взять с меня расписку?
— Нет. Расписка — до одного места. Есть другой вариант.
— Какой?
— Работать у нас.
Нетудыхин с удивлением посмотрел на Зуева.
— Осведомителем?
— Зачем же осведомителем? Осведомителями мы укомплектованы. Мы идем тебе навстречу. Тебя, конечно, за рассказ твой и анекдоты о Ленине надо посадить. Но, учи-тывая твои редкие способности, мы предлагаем тебе перейти к нам работать.
— Иван Иванович, — сказал Нетудыхин, — я же детдомовец. Неужели вы не по-нимаете моей психологии?
— Я тоже детдомовец. Тем не менее, считаю честью для себя работу в органах. Чего ты ломаешься, как сдобный бублик? Сколько ты там, в своей школе, получаешь? Сотню какую-то? А тут ты будешь при козырях. Потом, пойми, ты переходишь на сту-пень, качественно иную: ты становишься защитником безопасности государства. У тебя высшее образование. Пошлем на подготовку — подучишься нашему ремеслу. В течение года гарантирую однокомнатную квартиру. А там — пойдет дело, гляди, может, и в Мо-скву тебя заберут. Перспектива!
— Спасибо за доверие, но я хочу заниматься тем, что мне по душе.
— Писанием своим?
— Допустим.
— Не понимаю, откуда такая нахальная самоуверенность? Что можно сказать по-сле Пушкина, Толстого и вообще после всего того, что уже сказано в русской литерату-ре? Неужели ты думаешь переплюнуть их?
— Плеваться я не собираюсь, — ответил Нетудыхин с улыбкой. — А сказать свое — необходимо. По возможности — не ниже уже достигнутого художественного уровня.
— Несерьезно, Тимофей Сергеевич. Неопределенно все это как-то и беспредмет-но. У мужика должно быть конкретное дело, которым он занимается, — тогда он чего-то стоит. Занятие же литературой — это вроде что-то и уважаемое и вместе с тем — колы-хание воздуха, слова одни. Я тебе предлагаю Дело настоящее. Заметь, для Отечества, к судьбе которого ты не равнодушен, — я знаю, знаю, не перечь, — не менее важное, чем твое писательство. Ты молод, полон сил, человек со способностями — почему бы тебе не работать там, где ты можешь принести максимальную пользу? Скажу больше: ты мне симпатичен — нет, не потому, что свой брат, детдомовец. Другие тут, на твоем месте, сопли распускают, бабами плаксивыми становятся. Ты вел себя нормально, как положено мужику. Но у тебя какие-то перевернутые представления о нашей службе. Я даже догды-ваюсь, откуда они. Сказать? От детдомов. От лагерей. От неприязни к сукам и стукачам. Но это же разные вещи! Не служители мы Зла, а защитники Добра, если выразиться по-твоему, по-литературному! Мир расколот, и правда на нашей стороне. Тебе негоже укло-няться от этой борьбы. Ты подумай. Поверь, подобное предложение здесь, в этих стенам, делается редко, очень редко. Советую тебе не торопиться с ответом.
— А мои судимости?
— Что судимости? Детство это все, дань обстоятельствам. От тебя требуется принципиальное согласие. Остальное утрясем.
— Нет-нет, — сказал Нетудыхин. — Я вас понимаю, но я очень далек от такого рода занятий. Мне дорога школа, детвора моя непутевая. А литература — это, может быть, всего лишь хобби. Вы несколько завысили мне цену.
— Значить, не согласен?
— Нет.
— Ладно, пока оставим этот разговор. Не торопись, думай. Мы подождем… Те-перь слушай, что я скажу. Вот тебе бумага, садись за тот стол и пиши подробную объяс-нительную о "Сюрпризе". Где, когда, как задумал, как писал, что на тебя повлияло, по-чему рассказ уничтожил — короче, все с чувством, с толком, с расстановкой. Понял? Пиши так, чтобы потом лишний раз тебе не пришлось переписывать. И мне голову не морочил. Давай, иди садись и пиши. Я отлучусь на часок. Час тебе достаточно?