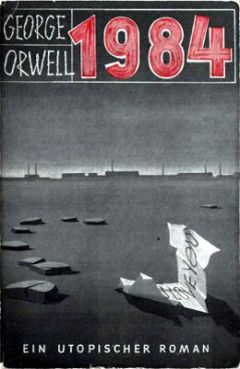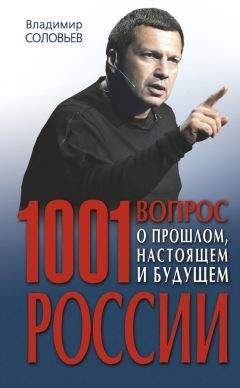Джордж Оруэлл - 1984
— О’Брайен! — взмолился Уинстон, пытаясь овладеть своим голосом. — Вы ведь знаете, в этом нет ни малейшей необходимости. Чего еще вы хотите от меня?
О’Брайен уклонился от прямого ответа. Он опять заговорил в манере школьного учителя, которую обожал напускать на себя. Он задумчиво смотрел вдаль, как будто обращался к некой аудитории там, за спиной Уинстона.
— Сама по себе боль, — наставлял он, — еще не всегда достаточна. Случается, человек может перенести боль и умереть, не сдавшись. Но у каждого всегда есть что-нибудь такое, чего он не может перенести, чего не может даже видеть. Смелость или трусость тут ни при чем. Когда падаешь с высоты, разве трусость — цепляться за веревку? Разве трусость — хватать ртом воздух, когда выныриваешь с большой глубины? Инстинкт, его невозможно уничтожить. То же и с крысами. Тебе их не вынести. Это такое воздействие, которое лично ты не сможешь выдержать, даже если захочешь. И тут ты сделаешь все, что от тебя потребуется.
— Но что потребуется, что? Как я могу сделать это, если не знаю, что надо?
О’Брайен взял клетку, перенес ее на ближний столик. Аккуратно поставил на зеленое сукно. Кровь застучала в ушах Уинстона. Никогда он не чувствовал себя таким одиноким. Он словно оказался среди безбрежной голой равнины, плоской пустыни, выжженной солнцем, в которой звуки доносились до него как бы издалека. А клетка с крысами стояла в двух метрах. Это были громадные крысы в том возрасте, когда их морды становятся тупыми и свирепыми, а шерсть из серой превращается в бурую.
— Крысы, — продолжал разглагольствовать О’Брайен, обращаясь по-прежнему к невидимой аудитории, — хотя и являются грызунами, тем не менее плотоядны. Ты это знаешь. Ты же слышал, что происходит порой в бедных кварталах Лондона. На некоторых улицах матери не решаются оставить детей одних и на пять минут, потому что крысы обязательно нападут на ребенка. Они мгновенно объедают его до костей. Крысы нападают также на больных и умирающих людей. Они удивительно хорошо понимают, когда человек беззащитен.
Пронзительный визг раздался из клетки. Уинстону опять показалось, что он донесся издалека. Крысы дрались, они пытались добраться друг до друга через перегородку. А еще Уинстон услышал тяжелый, отчаянный стон, который тоже, казалось, донесся издали.
О’Брайен поднял клетку и что-то нажал. Раздался резкий щелчок. Уинстон сделал отчаянную попытку вырваться из кресла. Бесполезно. Ремни удерживали намертво даже голову. О’Брайен поднес клетку ближе. Теперь между ней и лицом Уинстона не было и метра.
— Я нажал первый рычаг, — пояснил О’Брайен. — Ты понял, как устроена клетка. Маску наденут тебе на голову и плотно прижмут ее. А когда я нажму на этот вот второй рычаг, дверца клетки откроется и эти умирающие от голода животные пулей вылетят из нее. Тебе случалось видеть, как высоко прыгают крысы? Они прыгнут тебе прямо в лицо и вцепятся в него. Иногда они сразу впиваются в глаза. Иногда прогрызают щеки и сжирают язык.
Клетка приближалась. Казалось, Уинстон слышал визг у себя над головой. Изо всех сил он старался не паниковать, сдержать страх. Думать, думать, пусть осталась лишь доля секунды — думать! Это его последняя надежда. Отвратительный запах ударил в ноздри Уинстону. Его чуть не стошнило, он едва не потерял сознание. На какое-то время он опять превратился в безумное вопящее животное. Но вынырнул из темноты, ухватившись за спасительную мысль. Есть только один, всего один способ спасти себя. Ему надо поставить между собой и крысами другого человека, тело другого человека.
Кольцо маски закрыло все, кроме крыс. Проволочная дверка была от него буквально в двух пядях. И крысы, кажется, понимали, что сейчас произойдет. Одна из них все время металась от нетерпения, а другая — старая обитательница канализационной системы, вся в какой-то коросте, — поднялась на задние лапы и, уцепившись розовыми подушечками передних лап за проволоку, яростно нюхала воздух. Уинстон видел ее усы и желтые зубы. И снова его обуяла паника. Он стал слепым, безумным, беспомощным.
— Эта казнь широко практиковалась в императорском Китае, — как всегда поучающе, заметил О’Брайен.
Маска сжималась на лице Уинстона. Проволока царапала щеки. И вдруг (нет, это не было спасением — лишь проблеском надежды, но поздно, наверное, слишком поздно) — он вдруг понял, что во всем мире есть только один человек, на которого можно перенести наказание, одно тело, которое он мог поставить между собой и крысами. И он неистово закричал, без конца твердя одно и то же:
— Сделайте это с Джулией! Сделайте это с Джулией! Только не со мной! С Джулией! Мне плевать, что вы сделаете с ней! Пусть крысы разгрызут ей лицо, объедят ее до костей. Только не со мной! С Джулией! Не со мной!
Он провалился куда-то в пропасть, — но прочь, прочь от крыс. Он все еще был привязан к сиденью и вместе с ним летел сквозь пол, сквозь стены здания, сквозь землю, моря и океаны, пробивая атмосферу в какой-то иной мир, в межзвездное пространство, — но прочь, прочь, прочь от крыс. Он был от них на расстоянии в несколько световых лет, хотя О’Брайен все еще стоял рядом. Холодная проволока еще касалась щек. Но сквозь тьму, окутывающую его, он услышал по-новому прозвучавший металлический щелчок и понял: дверка закрылась, а не открылась.
6
Кафе «Под каштаном» было почти пустым. Желтый луч солнца, пробиваясь сквозь окно, падал на пыльные столики. Пятнадцать часов — время затишья. Только отрывистая музыка доносилась из мониторов.
Уинстон сидел в своем углу, глядя в пустой стакан. Иногда он поднимал глаза на огромное лицо, следившее за ним с противоположной стены. «БОЛЬШОЙ БРАТ ВИДИТ ТЕБЯ», — было написано на плакате. Подошедший без приглашения официант снова наполнил его стакан джином Победы и плеснул туда несколько капель из другой бутылки через трубочку в пробке. Гвоздика, настоянная на сахарине, была фирменной добавкой кафе.
Уинстон прислушался к монитору. Пока играла, музыка, но вот-вот должен быть передан специальный бюллетень Министерства Мира. Сообщения с африканского фронта были крайне тревожны. Они волновали Уинстона весь день. Евразийская армия (Океания воевала с Евразией; Океания всегда воевала с Евразией) продвигалась к югу с пугающей быстротой. В полдень в бюллетене не назвали конкретного района боевых действий, но, вероятнее всего, бои шли уже в устье Конго. Браззавиль и Леопольдвиль оказались под угрозой. Не стоит даже смотреть на карту, чтобы понять, что это означает. Дело не просто в потере Центральной Африки; впервые за всю войну опасность нависла над территорией самой Океании.
Сильное чувство, не то чтобы страх, а какое-то безотчетное возбуждение, то охватывало его, то пропадало. Он перестал думать о войне. Он не мог теперь подолгу думать об одном и том же. Он поднял стакан и залпом осушил его. Как всегда, джин вызвал дрожь и слабый позыв тошноты. Мерзкий напиток. Гвоздика и сахарин, сами по себе порядочная дрянь, не отбивали маслянистого запаха. Но хуже всего, что вонь джина, не оставлявшая его ни днем ни ночью, каким-то образом связывалась у него с вонью этих…
Он никогда не называл их, даже мысленно, и, насколько это удавалось, старался не вспоминать, как они выглядят. Это было нечто полуосознанное — близкий шорох, остатки запаха в ноздрях… Джин подействовал, и он рыгнул сквозь синюшные губы. Он растолстел с тех пор, как они выпустили его, восстановился цвет лица, совершенно восстановился, лицо округлилось, кожа на носу и щеках стала ярко-красной, и даже лысина порозовела. Опять без напоминания подошел официант и принес шахматную доску и свежий номер газеты «Таймс», открытый на странице, где была напечатана шахматная задача. Заметив, что стакан Уинстона пуст, он принес бутылку джина и налил еще одну порцию. Не надо было ничего заказывать. Тут отлично знали его привычки. Шахматная доска всегда была к его услугам, а столик в углу зарезервирован для него. И даже когда кафе было переполнено, он сидел за ним один, потому что никто не решался подсаживаться. Он никогда не считал выпитого. Время от времени ему вручали грязный обрывок бумаги и говорили, что это счет, но у него сложилось впечатление, что они берут с него слишком мало. Впрочем, даже если было бы наоборот, это не имело никакого значения. Теперь у него было много денег. У него была даже работа, конечно, синекура, и платили за нее куда больше, чем за прошлый труд.
Музыка в мониторе оборвалась, и заговорил диктор. Уинстон, прислушиваясь, поднял голову. Нет, это не бюллетень с фронта, а короткое сообщение Министерства Изобилия. Из него следовало, что в предыдущем квартале Десятого Трехлетнего Плана задание по производству шнурков для ботинок перевыполнено на девяносто восемь процентов.
Он просмотрел шахматную задачу и расставил фигуры. Тут было любопытное окончание с двумя конями. «Белые начинают и делают мат в два хода». Уинстон посмотрел на портрет Большого Брата. Белые всегда ставят мат, подумал он почти мистически. Всегда, без исключений, так уж устроено на свете. Еще ни в одной шахматной задаче с тех пор, как стоит мир, не побеждали черные. И разве это не символизирует вечную, неизменную победу Добра над Злом? Громадное лицо, исполненное спокойной силы, глянуло на него в ответ. Белые всегда ставят мат.