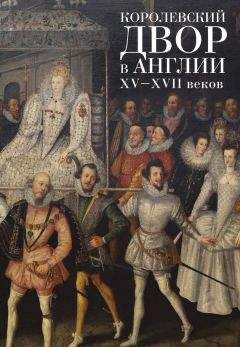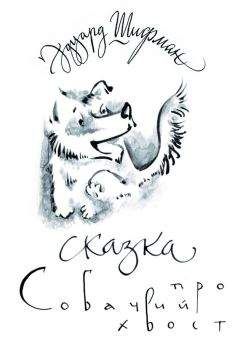Альфина - «Пёсий двор», собачий холод. Том I (СИ)
Господин Солосье, услышав про родственные чувства, только возвёл глаза — кажется, эти материи казались ему глупостью. Но вслух он об этом высказываться не стал, а довольно энергично заговорил о другом:
— Если бы аферу с какими людьми попроще проворачивали, не так оно и важно — родной или не родной ребёнок. Но для аристократии самые плачевные последствия возможны! Мне о, кхм, симилярном европейском опыте батюшка рассказывал, — господин Солосье обернулся к Приблеву: — Простите, запамятовал, как к вам обращаться…
— Можно просто Приблев, — смутился тот.
— Так вот, господин Приблев, вы ведь смогли разузнать об истинном положении вещей? Смогли, да и нам всем рассказали. А есть ещё люди, от которых вы сами сведения получили, — те, кто осматривал, те, к кому она обратилась за советом, куда именно идти… Наверняка же круг лиц, которым известна тайна, не слишком-то и узок. А вдруг кто-то из этого круга возжелал бы выгоды для себя? Признал бы, допустим, граф Набедренных без женитьбы ребёнка своим наследником — а к совершеннолетию появляется шантажист, готовый доказать отсутствие родства. Можно очутиться в положении самом незавидном, если обладаешь капиталом или общественным весом, а уверенности в кровной связи с детьми не имеешь.
— Будто б её можно иметь. Рождение детей — таинство за восьмью печатями, — с некоей почти печалью пробормотал граф Набедренных, а потом прибавил совсем в сторону: — Будь оно неладно.
— Уверенность — это, конечно, важно, чего уж важнее, — Хикеракли склонил голову на сторону, — да рожать-то не тебе. А ты знаешь, сколько женщин родами умирают? Нынче стало помягче, поскольку пилюль поменьше, а всё равно здоровьишка после экс-пе-ри-мен-тов государственных не хватает. И потом — это великий, так сказать, парадокс, — город-то по-прежнему перенаселён. Как по мне, если ребёнка подкинули, тут радоваться надо, что самому мурыжиться с этим делом не придётся, граф или не граф.
Говоря всё это, Хикеракли в определённый момент вдруг как-то чересчур прямо глянул на Скопцова, и тому стало совершенно ясно, что говорит он не за себя — да и зачем ему, его такие беды вовсе не интересуют. Зато он знает, как болезненно знаком сей петербержский парадокс Скопцову.
Когда ему исполнилось десять, Еглае было уже двадцать два — огромная разница в возрасте, наверняка и сгубившая их мать вскоре после вторых родов. Еглая не мудрствовала, вышла замуж за одного из солдат Охраны Петерберга, человека честного и к поиску полезных связей не склонного. Отец её выбор одобрил, да и сам маленький Дима Скворцов за сестру сердечно радовался. Когда стало известно, что быть ему дядей, очень веселился — это ведь такое взрослое название!
Еглая не умерла родами, нет; вся отцовская сила, кажется, досталась именно ей, а не брату. Да только сила телесная — ещё не есть сила душевная.
Отец поступил честно. Он пришёл к десятилетнему Диме, усадил его за стол, сел сам, выпил. «Это пилюли, — объяснял он чужим, неживым голосом. — С них воротит… Эх, да не легче ведь, что их больше всем пить не надо! Следы-то, понимаешь, следы остаются! В организмах. А младенцы… Ну ведь правда же, правда на них смотреть страшно. Говорят, когда женщина родила, она их непременно любит, а я, да простит меня леший, я ведь даже понимаю Еглаюшку нашу. Когда смотришь… Смотришь и думаешь, что вот это — из тебя, что в тебе человек сидел, живой, ведь и правда умом тронуться не зазорно».
Десятилетний Дима всё это с терзающей ясностью сознавал.
«Виноваты мы, видать, Димка, что-то не так сделали, раз не живётся в роде Скворцовых женщинам, — тоскливо бормотал отец. — Хотя что мы! В Росской Конфедерации не живётся. А ведь без них… Эх, Димка!»
И заплакал.
Вдовец Еглаи, солдат, от дочки, конечно, не отказался, но и уследить за ней не мог — отдали в интернат, «подальше от рода Скворцовых», навещал он её иногда. Только и повелел, что назвать в честь матери — тоже Еглаей. Скопцов и сам её частенько видел: очаровательнейшая улыбчивая девчурка с боевым, в деда, характером и зелёными-зелёными глазами. Конечно, она полагала, что мать её умерла родами — да не очень о том и переживала, в детские годы подобное разве кого волнует?
И, конечно, правды она не узнает.
Никто не заслуживает знать, что его собственная мать повесилась от одной только мысли, что тебя родила.
— Ну слушайте, парадоксы демографические — это одно, а я же совершенно о другом толкую! — объяснял тем временем господин Солосье Хикеракли, не замечая, к счастью, переживаний Скопцова. — Боязно, что за первой аферой ещё сорок восемь прыщами вскочат. Ну кто ж откажется от лёгкой наживы, шантажом добываемой? Пара слов, одно письмецо какое-нибудь завалящее, признание осматривавшего студента — и всё, живи себе в золоте да алмазах, если жертве репутация дорога.
— Не скажите, — вырвалось у Скопцова, и он сам себе удивился — и услышал, как неприятно дрожит его голос, — парадоксы демографические ведь нельзя оторвать от… другого. То, что ситуации вроде нынешней случаются, уже говорит… Ведь нельзя же думать о благосостоянии аристократов и уверенности в родстве — а это, о, это важные вещи, я не спорю! — но нельзя думать о них и забывать о том, с какой… с какими сложностями они сопряжены, как болезнен для росов этот вопрос!
— Так мы и не о росской женщине говорим, — с лёгким раздражением бросил господин Солосье, но мгновенно поправился: — Впрочем, нет, неважно, что это я! Вы всё верно излагаете — вопрос наиделикатнейший, конечно. Тем и жутко, что вся афера на такой завязана!
Скопцов улыбнулся и хотел было сказать, что с ним вовсе не нужно настолько уж деликатничать, но не успел, потому что Хикеракли громко загоготал:
— Экий ты, господин Солосье, ты ж моё золотце! И о том подумать успел, как ситуацию вывернуть, чтоб себе алмазов раздобыть, и о том, как нежных мира сего не обидеть, неосторожным словечком-то не задеть! А я уж решил, у тебя только ювелирное дело в крови, — господин Солосье открыл рот, чтобы нечто с негодованием ответить, но Хикеракли снова перебил, замахав руками: — Нет-нет, не серчайте, господин Зо-лот-це, вы ж мне так весь образ попортите. Золотой вы человек!
Господин Солосье возмущённо искал подходящую реплику, но на сей раз его перебил хэр Ройш:
— Не переживайте, господин, гм, Золотце, он мог вас и куда хуже обозвать. Например, Гныщевичем. Трудно что-нибудь поделать с тем, что досуг этого человека за пределами пьянства заключается в выдумывании нелепых имён и названий объектам и субъектам окружающей действительности.
Ремарка эта была исключительно едкой, но Скопцов с приятным удивлением уловил в ней определённую теплоту, даже ласку. Так шутят давние друзья и крепкие приятели — и если первыми Хикеракли и хэр Ройш определённо не являлись, то могло же случиться так, что успели стать вторыми? А ведь это тоже со стороны абсурд.
Но абсурд это, только если смотреть поверху. А если приглядеться внимательнее, то заметно, что, к примеру, и разноцветные сапоги Хикеракли, и неаристократически короткая стрижка хэра Ройша есть проявление некоей непокорности — здравому ли смыслу, привычному ли укладу, не столь важно. Если не судить по обёртке, то ясно, что самым неожиданным людям иногда будто судьбой предписано сойтись, только редко это бывает, потому что мало кто готов без страха нутро своё выложить.
И выходит, главная ценность Академии именно в том и состоит, что вот так просто, в «Пёсьем дворе» под кружку пива, без исповедей и надрыва, она выворачивает людей наизнанку, позволяя им минуть обёртки и заметить друг в друге то, что куда как обёрток важнее.
Глава 20. Аферисты
Золотце был уверен, что от кораблей его вывернет наизнанку. Ещё в Пассажирском порту, прямо на трап.
Не по причине морской болезни, конечно, а по причине болезни деловой: надо же было додуматься, надо же было впрячься в это ярмо, надо же было польститься! После нескольких месяцев на верфях, казалось Золотцу, морем путешествовать никогда уже не будет в радость. Однако же обошлось: по трапу он едва не пустился вприпрыжку, каюту нашёл тесноватой, но оттого лишь ещё более домашней — напоминающей о тайном местечке из детства, куда следовало забираться, обойдя против часовой стрелки всю батюшкину голубятню. Выглянув же на прогулочную палубу и вдохнув йодистого ветра, Золотце окончательно убедился, что голова его свободна от всей этой остойчивости, ходкости, позиционирования в заданной точке и прочей корабельной чепухи.
Нет, кто ж спорит: чепуха толкова, полезна и по-своему даже любопытна, но не к тому, не к тому сердце Золотца лежало! Как кончился первый курс, поползли по городу слухи о переоборудовании метелинского завода под автомобильное производство, даже батюшка поучаствовал — к кому ж ещё обратишься для нанесения на капот да на приборную панель последних штрихов, аристократическое самолюбие услаждающих? Золотце тогда покой и сон потерял: мало того, что Метелин за ум взялся — он граф, ему положено, но ведь и сокурсники из Академии тоже подвизались! Год с совершеннолетия, а все уже при должностях — разве ж так бывает? И засвербело тогда у Золотца на душе, мочи не было терпеть — хотелось безотлагательно ухнуть с головой в серьёзные дела. Взрослые дела. Не по реальной какой необходимости, а по необходимости сугубо экзистенциального свойства.