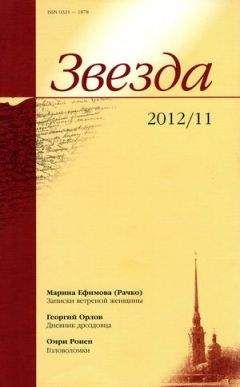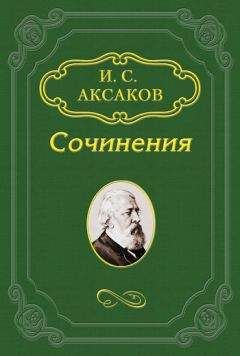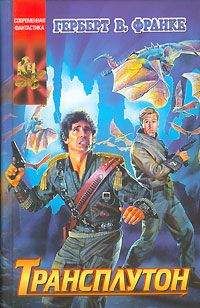Федор Метлицкий - Драма в конце истории
Но в женщинах я вижу наименьшее зло. Скорее, ощущаю поэзию. И эти чертовки чувствуют, что я их люблю.
Полная Лида учится в аспирантуре, она «на полставке», но вкалывает весь день, в надежде получить как за полную ставку, но шеф виновато вздыхает:
— Не могу дать больше, будет неверная отчетность.
Она неприступна, слишком серьезна. Жаль, тоже долго не задержится.
На вид очень податливая красивая Светлана так открыта мне, что я питаю неясные надежды. Хотя чувствую в ней некоторую постность, мешающую неопределенным поползновениям.
Мы погружаемся в работу. Чеботарев ищет в интернете все, что его увлекает больше всего: голые бюсты и бедра девиц, рекламирующих похудение, разводы и соответствующие откровения сторон. Их не надо искать — вываливаются, как только откроешь интернет. Интернет оказался не чудесной свободой выражения мыслей, а засоренным плевками узкого сознания юнцов, гогочущих, когда покажут палец. Где-то за этим прячутся великие книги, ответы на любые вопросы, которые можно задать.
Девочки не знают, за что браться. Светлана делает вид, что верит в не дающее прибытка дело, она совестливая. Только Лида серьезна — добросовестно ищет полезные сведения в интернете.
Одна Лида стремится вырваться из общей уверенности в своем знании, но это для карьеры.
Во мне проходит энергия одоления старого задания, и я начинаю заводиться новой целью. В моей голове сидит гвоздем ответственное дело, которое должен успеть сделать к сроку, даже не могу уснуть ночью.
И это зная, что занимаюсь не тем, не в этом моя судьба. Но не мог уже выйти из случайной колеи, слишком оброс людьми, что зависят и от меня.
4
Только с новыми приятелями из редакции журнала «Спасение» мне становится лучше.
С ними могу говорить, как с равными по духу, не сдерживаться и вываливать все, что накипело.
Это одна большая комната, здесь все самое необходимое — потасканная мебель, с трудами перевезенная из предыдущих работ. Самое ценное — компьютерная техника, вокруг которой кучкуются сотрудники в яростном желании пробиться к известности. Полки завалены журналами и книгами — редакция подрабатывает изданием бумажных и электронных книг жаждущих славы авторов и рецензиями за их счет, но их книги не идут из-за трудностей «раскрутки». Обстановка говорит о больших замыслах и ничтожном результате усилий.
Я пришел сюда, к моему студенческому приятелю — редактору Бате. Он соответствовал прозвищу: староватый от природы, большерукий, с хищным крючковатым носом и глубокими складками по сторонам.
Батя ругался с лохматым поэтом. Стихи у лохматого — о том, что у эфиопов синяя морда и красная жопа, а у русских — наоборот.
— Неправда, твоих строчек не изменял, — юркой скороговоркой выпуливал Батя. А-а, друг!.. Давай, что у тебя там?
Трепеща, позвонил ему через месяц.
— Готовь презент! — весело сказал он, — состряпал рецензию, хорошую.
— А если книга плохая?
— Ты что! Плати, и сделаем.
Через две недели в его журнальчике вышла бодрая залихватская рецензия, возносящая автора высоко, законченная так: «Духовно обогатиться „на халяву“, за счет интеллекта автора — святое дело». Я купил ему две бутылки лучшей водки, пропущенной через молоко, — не смея оскорбить друга оплатой. Потом было стыдно, что не заплатил ему.
— Не формат! — кричит в мобильник редактор Батя, поводя хищным носом. — Что это такое? Догадайтесь сами.
— А, юный свободный художник! — отрывается от корректуры своей статьи главный редактор Пахомов, Он печатается, и уже забыл, с какой хитростью и ловкостью, через знакомства пробивался, и потому добродушно обращен ко мне мозолистой душой.
Здесь, в редакции, атмосфера опасности. Все пишущие, я боюсь обмануться в их снисходительном отношении ко мне. Всегда чувствую себя перед ними, как младший в семье.
Там я впервые встретил поэта Веню, сумевшего издать книжку стихов. Он писал острые статьи и эссе. Это тщедушный человечек с красивой седой полосой в беспорядочной шевелюре.
Статьи он начал писать случайно. Ему было невыносимо от скорби матери, написавшей ему о самоубийстве сына-подростка. Отчего участились самоубийства в «зонах отчуждения», никто не знал. И Веня проводил расследование.
Он усмехается.
— Какая гадость! Вы тут все сумасшедшие. Слово потеряло смысл, идеи — соответственно.
Его тщедушность переставали замечать, когда он открывал рот. И беспомощная улыбка контрастировала с резкими словами.
Батя громко восхищается.
— Да, все мы больные. Под форматными лицами — готовые кандидаты в психушку. В человеке заложено безумие. Разве секс — не безумие?
У него было много сожительниц, они почему-то уходили от него. Он жил с очередной женщиной.
К Вене почему-то прилипла кличка «пришелец», потому что его не было несколько лет, словно появился ниоткуда. И никогда не говорил, где был. Он витает где-то вне времени, в космических метафорах нового писателя, считающего, что мертвых можно оживить лучом сознания внешнего наблюдателя, возвращающего их свет. Его книжку он носил подмышкой.
— Люди считают поэзией любовные песенки попсы, воображая их истекающую спермой любовь конечным пунктом человечества. И застывшую красоту — природы, мироздания, облекаемую в красивую грусть стиха. Вот, например: «Моя душа на дерево похожа/ — молчащий ствол с невнятицей ветвей./ Она молчит свой долгий век, и все же/ Сказать сумеет все, что нужно ей». Неплохо. Но это неполнота в космической открытости человека.
Я всегда хотел легкости бытия перед непомерной тяжестью чуждого мира. И смутно понимал слова Вени: «Есть нечто гораздо выше, чем твои улеты в безгранично близкое. Площадка поэзии — метафоры конкретных предметов мира, а не абстрактные слезы восторга. Цель искусства — не в улете, а в осознании смысла истории».
— Пророком, увидевшим наше время, был Андрей Вознесенский, говорил Веня тихим голосом. — Аэропорты — реторты неона… Правда, в его будущем, выделившем наши приметы, проморгал новое угнетение человека. Остались классики — те старики прежних веков, что живы до сих пор.
Ему близки классики далекого девятнадцатого века. И романтика шестидесятников двадцатого. В том числе их пьянство. Он вещал:
— Как и они, я не согласен с современностью этически…
Батя вытаскивает из-под стола бутылку.
— Но, но! — возмущается главный. — Мы еще на работе.
И достает из стола представительские конфеты и хрустящие хлебцы.
Разговор оживился.
— Как, вас еще не закрыли? — спросил осовевший главный. Он скрытый алкоголик, это заметно по запаху, исходящему от него постоянно.
— Закрыть нас нельзя, — сказал я доверчиво. — Мы общественники, не надо отчитываться за воровство бюджетных денег.
— Им денег не нужно! — заржал Батя.
Веня отвернулся с раздражением.
Главный нахмурился.
— Смотри, как бы тебя не закрыли. Мы тоже — на грани.
— Не закроют, — болтал Батя. — Заграница нам поможет.
Только здесь я стал понимать издателей, захваченных корпорациями-монстрами, к которым приходил, и уходил в ненависти. Они хирели на глазах, борясь за выживание, побежденные сначала теми монстрами, а потом электронными издательствами, уже безнадежно переродились в лихих лавочников. Как и мы, брошенные, в постоянной тревоге, что нас закроют за ненадобностью.
Веня робко глянул.
— Не волнуйтесь, давно прорвало запруду цензуры, и слово потеряло вес, окончательно обесценилось. Наступило время самоцензуры — от страха перед чем-то страшнее печатного или произнесенного публично слова.
— За успех! — поднимает рюмку главный.
— Поскольку успеха нет — сказал Веня, поднимая стакан, — остается только за благородство мысли.
— Я за любовь к людям, — возбудился Батя. — А любить можно только женщин.
Такой тост мне понравился.
Бате мешают взбрыкивания его шутовской натуры, постоянно играет, ерничает. Как краб, всю жизнь носил некий панцирь, привык и никак не мог выйти из него. Никто не принимал его всерьез.
С ними мне не по себе. Их я знаю давно, но иногда приходит мысль: что это за люди? Какое имеют отношение ко мне? Живут в сегодняшних нехватках, не чуя под собой почвы. Главный относится к своему делу очень серьезно, как к чему-то значительному и единственно важному, не понимая, что все безнадежно.
Мы спорили о путях изменения системы и важной роли интеллигенции, чтобы нас заметили и вознесли. Спорили до изнеможения, как влюбленный Фридрих Ницше спорил с Лу Саломэ, одной из самых блестящих умов старого времени.
— История — сплошное притворство! — разглагольствовал Батя. — Интеллигенты сплошь предавали — и народ, и самих себя. Великий артист-эстрадник присваивал чужие тексты, как свои, пользуясь бесправием пишущих для него сатириков, которые не смели восставать открыто. Теперь все выходит наружу, люди отвернулись от былых классиков, от всякой фальши гуманизма, как будто спала пелена. Не стало авторитетов, и новых смыслов не стало.