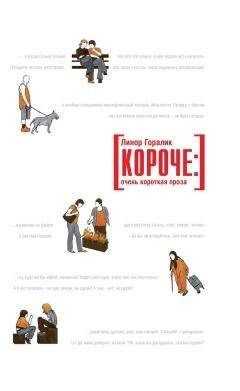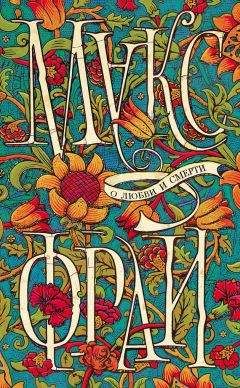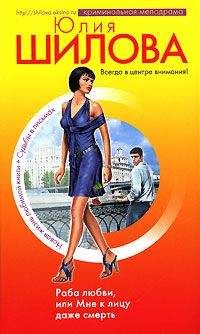Линор Горалик - Нет
— Ничего, нормальный вопрос. Я по вкусам вполне ванильная женщина. Кое-какие фетиши, но далеко от вашей области.
— Это плохо.
— Мы можем разнести сцены унижения и сцены возбуждения, чередовать запись и так дать бион.
— Ну можем, понятно. Ну, посмотрим. Сейчас неважно. Собственно, вы могли не раздеваться, мне сейчас хочется другое посмотреть. Мы делаем такую сцену, в фильме ее нет, по крайней мере, сейчас я думаю, что ее не будет в фильме: это отбор, с вами будут еще Хелен и Калиппа, Хелен! — это Хелен, это Хана, Кали куда-то вышла, я попросил их просто статистами тут побыть, помочь вам на пробе. Это сцена селекции, все проходят мимо врача, и врач говорит налево-направо, направо — это в камеру, в газовую, налево — это в бараки, то есть жить. Понимаете?
— Как никто. В нашей стране эта тема, знаете, вполне досконально существует.
— Почему, собственно, я и обрадовался вашей анкете.
— Я понимаю.
— Ну вот Вы не знаете, что врач вас отметит особо для себя и потом захочет сделать своей любовницей.
— То есть я играю старшую?
— Ну да
— А младшую вы уже подписали?
— Нет, пока нет, еще будут пробы, ну, неважно сейчас.
— Конечно.
— Ну вот. Вы в этой сцене — вам холодно, мы там включили кондиционеры, в той комнате, — вам страшно, вы грязная, вы ехали в этом ужасном поезде, но вы очень хотите жить, очень, вы молодая, вам двадцать лет, вы хотите, чтобы он вас отправил налево, в бараки. И вот человек, которого вы ненавидите и боитесь сами понимаете как, и вам при этом очень, очень, очень надо ему понравиться. Вам надо пригладить волосы, плечи прямые, улыбнуться, понимаете. И вы не знаете, и зритель не знает, но вы должны так ему понравиться, чтобы он вас забрал в любовницы потом. Но вы, конечно, даже не думаете об этом. Просто — вот как актриса — понимайте степень. Понимаете?
— Надо пробовать. Так — да.
— Ну вот хорошо. Вам надо втянуться?
— Ну минуты три хорошо бы. Я прямо тогда в той комнате уже?
— Да, хорошо, я тогда минут через пять подойду.
Ну, дай бог, все получится здесь, расклад совсем идеальный, слишком даже идеальный, ай да Гросс, ай да сукин сын. К сожалению, мальчик, играющий врача (что-то у меня все врачи да врачи) и игравший врача же — роль второстепенная, но славная — в «Белой смерти», к евреям, кажется, гораздо терпимей, чем к черным; нет в нем ни природного двойственного этого чувства, ни достаточного актерства, чтобы накрутить себя и втянуться. Задается он, кстати, как расцелованный Мисс Америкой пятиклассник: главная роль у Гросса! главная роль у Гросса! — а что на съемках «Смерти» я его едва на тряпки не порвал за его скованность и неловкость, так это мы радостно забыли Но к евреям он, кажется, вполне никак, не понимает даже до конца, что там такое было. Чувствую я, что на обработку биона этого мальчика уйдет у меня столько денег, сколько на всех остальных, вместе взятых, но не искать же было юного нациста — потом пресса затрахает.
— Ади, теперь касательно тебя. Ты слышал, что я говорил Хане; на самом деле сцена будет не такая, но мне надо посмотреть ее реакции кое на что, на бионе; мне надо, чтобы, когда она подойдет, улыбнется и так далее, ты бы схватил ее за волосы и сказал: как ты смеешь, вонючая жидовка, кокетничать с немецким офицером? Ади, очень много от тебя зависит; надо это очень яростно, очень сделать брезгливо и с отвращением, чтобы я мог посмотреть на бионе, как Хана реагирует на такие вещи, это, как мы все понимаем, не очень красиво, но очень для фильма принципиально, я ей сам потом объясню, что у тебя было мое распоряжение, что это не ты, а я.
— Я скажу — и все, сцена кончилась?
— Нет, ты ее отпусти и как-то передать бы… Вот ты ее отпусти и ладонь брезгливо вытри о штаны — и в глаза посмотри ей, и все, кончили сцену.
— Ну давайте. Мы меня тоже пишем?
— Только вижуал, так что разгонять себя не надо, а просто веди себя так, с нажимом.
— Ну давайте, давайте.
— Коллеги, пожалуйста, все в ту комнату, я хочу отснять — и разбежались по домам, уже семь почти, давайте, одним ударом и закончим на сегодня!
— Как ты смеешь, вонючая жидовка, кокетничать с немецким офицером?!
Держит ее пригнутой, сгорбленной, запустив тонкие белые пальцы в роскошные кудри цвета черной сливы; от неожиданности Хана даже не пытается вырваться; секунда, две, три, я щелкаю пальцами — Ади отпускает ее кудри, медленно и брезгливо вытирает руки о штанину, ай да Ади, стало быть, не только черные! — или разыгрался так? — супер, супер, долгий взгляд в глаза, он — брезгливо, она — все еще пригнувшись, испуганно и растерянно, — иииии — кат!!
Подходит, когда я стою один, загружаю ридер, чтобы засунуть ее бион — не хочется почему-то накатывать сейчас на себя, ридером почему-то легче. «Ну ни хрена себе шуточки», — говорит.
— Простите, Хана, но мне нужна была реакция вот на такие вещи, это, конечно, не Ади, это было мое распоряжение
— Да он мне сказал.
— Простите меня. Но я перфекционист. Со мной в таких вещах трудно, да. Вы простите. Но — надо было, я бы иначе вообще не смог рассматривать вас в кандидатки.
— Ладно, неважно, смотрите бион.
Яркая раскладочка: много красного, синего, — ну, понятно, видимо, он больно прихватил, и температурный дискомфорт, ясно; лимонного коротенькие полоски — испуг, не такой чтобы прямо уж, но на пробах редко втягиваются до конца, тут даже неожиданность не спасает, а в целом — хорошо. Но! Черт!
— Вы знаете, Хана, я все-таки накатаю на себя.
У нее, оказывается, побаливал желудок, а не сказала — непрофессионально, нехорошо, ну, может, решила, что — раз пробы — неважно. Вот доходим до — оппа! — ухватил за волосы, дернул — и…
Легкий испуг, дискомфорт, неожиданность, чуть обострившаяся боль в животе, желание воспротивиться, оп! — отпустил волосы… И все.
— Вы чем-то недовольны.
— Вам обиняками?
— Нет, мне как есть.
— Я не могу описать, чего ждал. Но для израильтянки вы как-то очень спокойно на его фразу. Я ждал какой-то еще эмоции… чего-то…
— Ну, если бы я была еврейкой, я бы, может, ее и дала.
— ???
— Я израильтянка, а не еврейка. Я арабка, сирийка по матери, ливийка по донору. Я думала, вы знаете. Простите. Я не думала, что это будет важно. Ну, я имею в виду — для меня слово «жидовка»… Ну, просто диковато звучит, — все, ничего больше.
Глава 55
Невероятно — плачет, сидит и плачет. Вот о чем не надо думать, а думается: а когда мы расходились — плакал? Какая разница, Кшися, мы в те годы вообще другие были — молодые, злые, тех, кто нас бросал, не жалели, а ненавидели; это теперь — чувство потери, а тогда бывало — только чувство предательства. Сейчас, когда гладишь его по затылку, чувствуешь впервые за все годы, что знакомы, — уже совсем не мальчик, и под пальцами — мужская широкая выя, сейчас видишь, что то тут, то там детская твоя ладошка ложится на седой волос.
— Зухи, милый, хороший, я с тобой, ты слышишь? Я тебя люблю, родной, я тебя люблю, ты самый хороший, лучше всех, Зухи хороший, Зухи, Зухи, иди сюда, иди…
Плачет взахлеб, уткнувшись в детский животик, хлюпает, как младенец; маленькая девочка с великовозрастным огромным младенцем — хороши мы сейчас, ничего не скажешь. За спиной у него зеркало, в зеркале мы с ним: у него на левой (правой? так и не научилась в зеркале понимать) подметке налип кусочек йо-то, у меня глаза как две плошки и вот сейчас, когда на мордочке сострадание… захватывает дух, хоть и неуместно это в данный момент, хоть и неловко, но — как хороша получилась, как хороша! Пока шел морф — три дня сегодня, как я тут три месяца уже — бывало даже и страшно; одним утром проснулась, поплелась в туалет, и вдруг аж сердце екнуло — краем глаза увидела в зеркале ужасное, страшное пугало с перекошенной рожей: левая скула округлая, мягкая, а правая — надменная, высокая, и из-за этого один глаз выше, другой ниже — чуть не заорала, хотя и знала, что морф не всегда идет синхронно, и в первом морфе тоже такие фазы были. Надо бы посидеть терпеливо, подождать обхода в двенадцать — но не выдержала и помчалась в ужасе, морду закрыв платочком, за утешением к дежурному врачу, разбудила, заставила долго говорить то, что и так знала, — стало полегче. В другой раз вечером вернулась с ужина и увидела, что волосы идут вперемешку — часть черные и прямые, а часть — светлые и вьются. Даже смешно получилось, вполне авангардно; неделю, пока менялись остальные пряди, забавная была прическа. А сейчас все позади — и смотрит из зеркала ангел, божественное создание, Девочка Со Спичками, Маленькая Герда, — золотые локоны, синие очи, молочная кожа, кукольные ручки гладят жесткие черные кудри рыдающего тебе в животик следователя по делам нелегальной порнографии.
— Зухи, Зухи, солнце… Зухи лапа…
Давится слезами и начинает утирать лицо моей футболкой, на полу валявшейся. «Все, — говорит, — все, прости меня, ради бога, все, все закончилось, я в порядке. Я просто как-то совсем охренел от всего происходящего. Потому что чувство такое, что у меня вот просто мир рухнул. Ты понимаешь, да, — у меня говно с работой, и вообще непонятно сейчас, куда меня после травмы задвинут; у меня Руди — и еще уедешь ты, и все это меня совершенно…» — И опять, несмотря на все усилия, скрючивается пополам в странном полузадушенном «ыыыыыы».