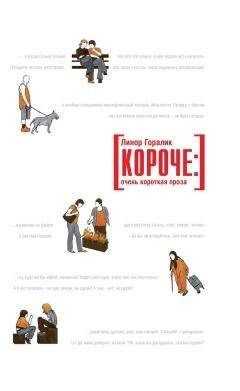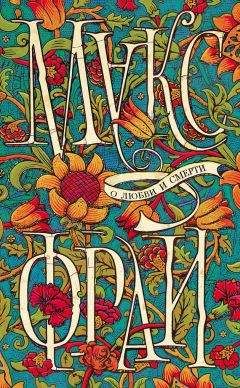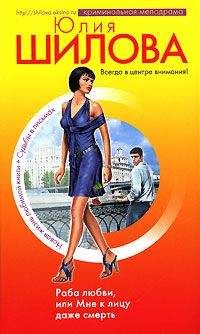Линор Горалик - Нет
Эли, Эли, у нас-то можно, только никому не нужно. У нас бы фильм такой никогда не продался — не тот рынок, очень пресно, очень просто это для нас, ты же ее, понимаешь, не ножом режешь, а она плачет… Страшно подумать, но фильм про любовь сейчас, Эли, снимать негде. Нет места, понимаешь? У вас нет выразительных средств, у нас нет интереса; я запретил себе об этом думать еще в институте; я бы и дальше об этом не думал, но ты растеребил, и теперь никуда не деться… Слушай, Эли… А ты не хочешь, знаешь, подумать о том, чтобы уйти из своего говна и работать вместе, я ведь думаю, если честно, что ты вполне гениален, я никогда тебе этого не говорил, по целому ряду причин, но я думаю, что изначально, знаешь, ты получше меня будешь, потому что я-то беру концептом, наглостью, прямым высказыванием, почти китчем, а ты — я же помню, — у тебя же гениальное чувство кадра, у тебя же изумительный вкус, метафорика, чувство ритма; послушай, Эли, бог с ними, с деньгами, уходи оттуда, будем работать вместе, плевать на рынок, как ты говорил — вот я тебе это продемонстрирую, вот послушай: будем про любовь и про все остальное, честно, голодать будем — но будем про нас самих, про что захотим, ей-богу; я готов отдать тебе площадку, потому что для фильмов так будет лучше; я останусь сценаристом, организатором, помощником режиссера, но вместе мы сможем… мы сможем… Что ты думаешь, Эли?
Всего этого я, конечно, ему не сказал. Я сказал: «Я никогда об этом не думал».
Глава 51
Так нервничала полвечера, что позвонила Ленке: спросить, что такое украинец и с чем его едят. Ленка сначала долго издевалась и рассказывала про сало, от одной мысли о котором («Я слово знаю, но не знаю, что это!» — «Ну это животный жир, жир, свинку когда режут, жир отдельно засаливают и едят». — «Да ладно тебе!») делалось дурно; наконец удалось уговорить Ленку прекратить паясничать и сказать что-нибудь внятное. Оказалось — ничего такого особенного, и совершенно даже не ясно, почему вдруг дернулась, с чего напряглась; мало ли кто какой зверь где. Успокоилась; зато в голове теперь вертятся какие-то Ленкины шуточки, нежные песенки, русские сказочки, вертятся, вертятся, и все вокруг вертится, и комната, кажется, тоже вертится, вертится. На озаренный потолок посмотреть страшно — мечется темное пятно, два слитых тела, как если бы был пожар и мы пытались друг друга прикрыть, выкатиться клубком наружу, глотнуть воздуха — а воздуха не глотнуть тем временем, потому что сердце стоит в горле и не пропускает воздух, потому что кровь стучит в голове и глаза застит, потому что горячо и больно от чужого тела в своем теле, от чужого сердца в своем сердце — а в сердце тем временем косо ложились тени, росли страхи, в сердце лежал камушек, — вдруг ему плохо, вдруг он совсем не этого хочет, вдруг я не чувствую, не угадываю, не понимаю его желаний, вдруг он и сам боится подать мне знак или сказать слово, вдруг ему тоже так же страшно, и горячо, и неловко, — и закончится тем, что худо-бедно отлипнем, разорвем скрещенья рук, губ комок разделим надвое, упадем рядом — не как два насыщенных зверя, но как два солдата, друг друга побивших, друг друга убивших, проигравших друг другу, друг друга не победивших, — а скрещенья рук тем временем становились тесней и судорожней, а скрещенья ног отдавались спазмом и сполохом, и хотелось не думать ни о чем, а все равно думалось, думалось — в пятнадцать лет ничего не умели, не имели ни опыта, ни интуиции, ни сноровки — а в постель ложились, как боги, не сомневались, что все получится, не сомневались, что лучше нас нет любовников, не сомневались, что ему понравится, уж так понравится… А теперь в тридцать с лишним все умеем — и от всего вздрагиваем, столько раз с кем попало в постель ложимся, что уж и вставать скоро будет незачем, — а как приведут судьбы скрещенья к кому-нибудь, от кого сердце в горле стоит, кровь стучит в голове и глаза застит, так начинаешь всего бояться, на все оглядываться, кожу заранее перед зеркалом оттягивать пальцами — как бы морщинки укрыть? — близко наклоняться, зеркалу смотреть в усталые глаза — как бы мешочки укрыть? — гребешок обирать горестно, прядку в пальцах крутить — как бы сединки укрыть? — и нет способа их укрыть, и только думаешь — неужели если сегодня ляжет со мной, если сегодня, несмотря на морщинки, сединки, мешочки, так же ждет и хочет, так же стесняется и дрожит, как и я сама, — значит, недаром мы здесь, недаром сердце ухнулось в пятки, когда падали два башмачка оттого, что поднял на руки и понес, как девочку, до кроватки, и сейчас так прижимает к себе, так движется осторожно, что от нежности сводит горло и хочется выпутаться из его объятий и самой зарываться в шерстку лицом, целовать и гладить, брать в рот и пить губами, пока последняя капля не перельется, дать дорогому браслету порваться и грохнуться со стуком на пол, чтобы, не дай бог, застежкой его не задеть, не сделать ему больно, и плавиться над ним, как воск, и стонать оттого только, что капли пота на его щеках поблескивают слезами, оттого, что бабочка слетела с ночника и качается на занавеске, и вспоминать, как принесенный им букет такими же слезами капал на платье, и все терялось в снежной мгле белых простыней, в странной щемящей нежности, тоже седой и белой, и как свеча горела на столе между нетронутыми блюдами, когда встал, подошел, обнял, и как вышли потом, после всего, счастливые, как придурки, в гостиную — а все еще свеча горела, а казалось — вечность прошла.
Тогда, стоя босиком на полу гостиной, глядя на свечу, из-за которой Вупи два часа до его прихода терзалась — не пошло ли? не наивно ли? — прижимая голую Вупи к влажной от пота кротовьей шерстке, ногой поглаживая трущуюся рядом Дот, Алекси наклонился и тихо шепнул Вупи в ухо: «Кат!» — и от хохота оба обмякли.
Глава 52
Есть некоторая невыносимая красота в подобных сценах, какой-то почти наркотический драйв, потому что в такие моменты все, что мы делаем, вдруг начинает выглядеть осмысленно, возвышенно и как-то… чисто. Черт, может, виновато кино, но когда десять человек в полном боевом снаряжении, все такие в синем, все такие в черном, стоят, прикрываясь дверцами полицейских машин, строго глядя в мушки парализаторов, — меня, уже двадцать лет торчащего в полиции, захватывает некоторый сентиментальный драйв типа «God Bless America». Мне хочется обводить их взглядом — медленно и тоже строго, и каждому отдавать честь — совершенно по-настоящему, и каждому говорить, что я считаю его героем — хотя прекрасно знаю, что девятнадцать из них — простые смертные трусы, не очень честные, не очень преданные своему делу, безусловно, не выполняющие заповедей Аллаха. Двадцатый — я, — простой смертный трус, не очень честный, не очень преданный своему делу, безусловно, не выполняющий заповедей Аллаха, несмотря на искренние молитвы четыре раза в день и крайне брезгливое отношение к свинине и алкоголю. Если бы я выполнял заповеди Аллаха, мы бы брали сейчас эту студию не потому, что нам указал на нее тихонько Йонг Гросс, а потому, что досье на нее лежит у нас в папках уже больше двух лет — черно-белый секс, пропаганда расизма, мы с Зухи смотрели когда-то какой-то их приаттаченный к делу сет — «Пещерка дяди Тома», что-то такое — довольно противно. Мы бы сейчас брали эту студию не потому, что я честно отрабатываю денежки, выплачиваемые мне Гроссом, а потому, что так лучше для Америки. То, что мы делаем сейчас, тоже лучше для Америки. Но хуже для меня.
Если бы я выполнял заповеди Аллаха, мы бы, может, вообще не стояли здесь сейчас — все такие в синем, такие в черном, прикрываясь дверцами машин, — потому что я не полез бы напролом, а подготовил бы почву, выбрал бы подходящий момент для ареста хозяев студии, произвел бы обыск в их отсутствие — и все прошло бы тихо, и мы бы нашли то-не-знаю-что, из-за чего они сейчас, когда мы с Зухи пришли с арестом (а Зухи смотрел на меня косо, говорил холодно, шел нехотя, — так с тех пор и не пришел в себя, так и не простил мне Гроссовых сребреников), начали отстреливаться и грозить перебить актеров как заложников, если им не дадут смотаться; и не стоял бы здесь сейчас оперотряд из двадцати человек, таких строгих, таких красивых, с напряженными лицами героев под прозрачным пластиком защитных шлемов, и я не молился бы о том, чтобы все закончилось так, как лучше для Америки.
Эти засранцы построили себе здесь, в Кэмбрии, изумительной красоты здание — слишком, понимаю я сейчас, красивое, слишком богатое для маленькой студии, делающей едва двадцать сетов в год, — кажется, Гросс и сам не знал, на кого нас навел. Плоский диск, восхитительная пористая поверхность, серебристо-серая, даже дымчатая какая-то, поверху кольцом идет сплошное окно, понизу, так, чтобы не бросаться в глаза, выдавлена подпись архитектора — индивидуальный заказ, черт знает сколько должна стоить такая игрушка, что же они там прячут? Если начнут стрелять — обшивке, наверное, конец; по крайней мере, если решат заменить парализаторы на нормальное оружие — а сейчас вон об этом тихонько урчит по рации Скозелли, который терпеть, как известно, не может парализаторы, не доверяет всем этим игрушкам, старой школы человек. Между прочим, стоим вот уже скоро двадцать минут, руки начинают затекать, причем совершенно непонятно, действительно ли у них там есть заложники, — две инфракрасных камеры они кокнули волной сквозь стены, одну — едва та доползла до высоты полутора метров, ничего себе у них там охрана помещений; вторую — не сразу, но тоже нашли, та подбиралась по стене со стороны аварийного выхода; внятно проорали: «Третьей мы покажем внутренности какой-нибудь сучки, намотанные на хороший ствол!» — Скозелли приказал отставить идею с камерами, и теперь ждали вслепую, пока психолог вяло переругивался с сидящим внутри директором студии Гебби Герингом; по интонациям было ясно, что прогресса не будет и придется все-таки брать приступом; брать не хотелось. До конца переговоров оставалось еще минуты три; я посмотрел на Зухи и попытался понять, каково ему, бывшему командиру оперотряда, сейчас ждать приказа от коротконожки Скозелли, — они ругались по коммам, пока Скозелли ехал сюда со своими людьми, и за эти десять минут успели, кажется, возненавидеть друг друга навеки. Если честно, я не думаю, что так лучше для Америки; но сейчас совершенно не время их мирить. Зухи при виде Скозелли идет пятнами и при каждом новом его распоряжении кривится, и теперь я повернулся в основном, чтобы подмигнуть ему, подбодрить немножко — но Зухи, совершенно невероятным образом, не оказалось на месте — я даже дернулся и чуть не вывернул себе шею, ища его взглядом — а он стоял в десяти метрах от своей машины и говорил что-то в комм, стащив шлем, и с лицом у него было нехорошо, ох, нехорошо, — и я решил, что по молодости он совсем потерял голову от злости на Скозелли и сейчас, не дай бог, на рожон полезет, — и я прикинул, что есть еще как минимум полторы минуты, и метнулся к нему — но тут у меня под ногами что-то тихо качнулось, мне показалось, что я просто оступился, но качнулось в другую сторону, куда сильнее, и тут я понял, что происходит, и рванул к Зухи, уже цеплявшемуся за медленно и плавно встающую дыбом землю под ногами, и мне показалось, что я бегу по гребню волны, потому что у меня под ногами был действительно какой-то гребень, поднимавшийся все выше и выше, поднявшийся уже, наверное, на метр, и я сам не понимал, почему бегу к Зухи, вместо того чтобы падать, группироваться, пережидать то страшное, что сейчас надвигается на нас, как цунами, почему я иду по волнам к Зухи, который как-то странно лежит на боку, и лицо у него белое и неживое, почему одна раскаленная скрежещущая волна у меня под ногами сменяется другой раскаленной и скрежещущей волной, а я иду по волнам, и волны расступаются передо мною, и с последней я не то спрыгиваю, не то падаю рядом с ним и вижу, что он без сознания, видно, ударился головой, и хвала Аллаху, что не оказался между двумя кусками плит, прежде покрывавших двор перед зданием студии «Хэппи Нэйшн», и мне совершенно не кажется, что так оно лучше для Америки, и я говорю Аллаху: ты видишь? — и понимаю, что Он видит, и берусь за край плиты — и она отодвигается, огромная, каменная, искореженная взрывом, — отодвигается подальше от Зухи, как фанерная тоненькая дощечка, но я не смотрю на него, потому что смотрю на джет, поднимающийся над флером дыма и пыли, уносящий с собою тех, кто прятался в плоском диске уникальной дизайнерской работы, уносящий, видимо, то, что эти люди так стремились скрыть, ради чего заранее заминировали двор и приготовились убить двадцать человек полицейских, если так будет нужно для бегства. Я смотрю на тех, кто корчится среди вздыбившихся плит и покореженных горящих автомобилей, и на тех, кто вбегает в здание, и на тех, кто выводит оттуда заложников и бегом возвращается назад — искать что-то, что, я уже знаю твердо, мы никогда не найдем. И только потом я опять смотрю на Зухи и вижу, что он пришел в себя, и понимаю, что он плачет, и я говорю: терпи, мальчик, вон подъезжает «полумесяц», все будет хорошо, терпи, я с тобой, я бы сказал тебе — «мы сделали, как лучше для Америки», — но у меня язык не поворачивается, зато переворачивается сердце, Зухи, не плачь, с тобой все будет вполне в порядке, я обещаю — а он смотрит на меня и вдруг всхлипывает, как ребенок, и говорит тонко: