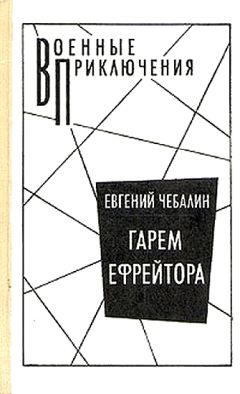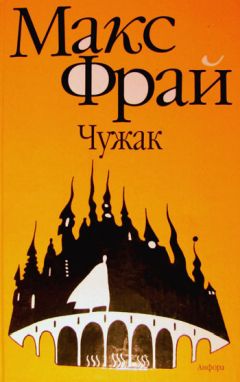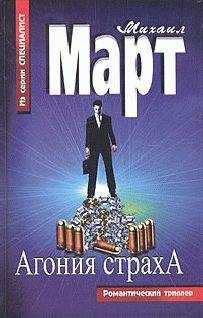Лев Аскеров - Приговоренные
Пытливый не дал долго спать родителям.
— Вставайте! Уже десять утра, — голосил он. — Едем на Поляну Божьей ауры. Там отдохнем лучше, чем в вашем Навуходоносоре.
Первый раз за все время Пытливый облетел терновый заслон. Но флаер все-таки не коснулся поляны. Он завис над самой травой… Пытливый даже мечтать не мог о таком дне. Отец, мать, Камея и он, здесь, на этом волшебном пятачке. Он смотрел на родителей и переводил взгляд на два стоящих в цвету гранатника. И невдомек им было, что эти кусты показывались ему в их образах. Он зажмурился и тихо попросил Камею ущипнуть его.
— Зачем? — удивилась она.
— А может, я сплю, — сказал он.
Водоем с хрустальным ключом, бьющим высоко в небо, привел всех в восторг. И он снял с них возбуждение минувшего дня, усталость ночи и сморил сном. А когда проснулись, они долго сидели над пропастью, в том месте, где стоял чудо-Кедр.
— Здесь — прекрасно. Волшебно, — сказала Чаруша и мечтательно глядя вдаль, добавила:
— Но как бы здесь хорошо не было, я все же хочу в наш домик на третьей Венечной.
— Я тоже по нему соскучился, — живо отозвался Пытливый. — Завтра же и полетим. Не станем откладывать.
— Правда? — расцвела Чаруша. — Ой, как хорошо.
Отец с сыном переглянулись. Камея повернула голову к темнеющей стене терновника. Они то хорошо знали, что для Пытливого «завтра» — не будет.
Солнце скатывалось за горизонт. Уходил в небытие такой прекрасный, такой неповторимый день. Они четверо еще смогут повторить свою встречу здесь. Но в день другой. Может похожий, но другой.
— Камея! — окликнула Чаруша. — Когда-то очень давно и в ином мире Ведун подарил мне платье и сказал, что дарит мне, любимой девушке, молодость…
— Было такое, — подтвердил Строптивый. — Ты еще от него отказывалась. А оно спасло тебе жизнь.
— Отказывалась, — согласилась она.
— Камея, я помню этот разговор, как сейчас, — сказал Строптивый. — «О, Ведун, говорила она, ты мне даришь молодость… А буду ли я счастлива?…»
— И я счастлива, родной мой, — сказала она.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
(Эпилог)
1. Аттила
Царь Аттила умирал. По губам Великого варвара текла кровь. Он искусал их, чтобы не верещать жалким шакалом, получившим в бок стрелу. Чтобы воинство, никогда не видевшее в тяжелых глазах царя страха и не слышавшее от него стонов, не шепталось, что Великий Аттила — сын Железной скалы и Огня небесного — в последнем своем поединке со Смертью верещал, как простой смертный.
«Ах, увидеть бы ее, эту смерть. Да знать, чем берет она», — двигая каменными челюстями сетовал Аттила.
Но невидима она и неведомо ее оружие. Больше всего однако Великого воина гневило другое. Его, вождя вождей всех гуннов и Царя, поставившего на колени других царей, она не считала себе за ровню. Даже не снисходила до того, чтобы показаться перед ним во всей стати.
— Стыдится она своей наружности, — произносит он вслух. — Червячен и мерзок ее облик.
— Смерть — не воин, повелитель. Она — судьба, — наклонившись к нему с дымящейся чашей травного отвара говорит колдун Гунал.
— Судьба, — повторяет царь, прислушиваясь к себе, и после недолгого раздумья с горькой усмешкой замечает:
— Не везет мне на женщин.
— Этой женщине твоей завидует весь мир, повелитель.
— Она — моя, поэтому и завидуют. Чужая лучше собственной.
— Но твоя судьба царская.
— Тем более. Царственная стерва. Прелестная со стороны. Сварливая и своенравная в шатре.
Аттила скрипнул зубами. Отвар не действовал. Или действовал так, что только раздразнил его боль. Дернул за ус и озлобил. Освирипев, она кинула свою рысью лапу и когтями — по груди. Изнутри. Да по-живому. От безумной боли царь скорчился, повалился на бок, но мысль не упустил.
— Я у ней, у судьбы своей, в поводьях — выдавил он. — Несусь куда хочет она. А сейчас вот тянет в стойло. К мертвым. Я упираюсь, брыкаюсь, взвиваюсь… Но иду.
Аттила попросил колдуна крепкого макового настоя.
Мак успокоил озверевшую рысь. Одурманил. Она терзалась, но со сна. Вяло. Не так больно. Стало лучше. Несравненно лучше…
И пелена блаженной поволоки подернула стальные глаза Великого гунна…
… И простерлась перед ним родная степь. И над шелковым ковром ковыли плыло вязкое марево. И проступили сквозь нее силуэты шатров отчего стойбища. И от полыхающих рядом с ними кострищ тянуло свежей кровью, душистой полынью, жареным мясом и паленой шерстью. И, разливаясь, текли от них заунывные, сжимающие сердце песни.
И увидел он мальчика с большими раскосыми глазами. И на красном коне под синим месяцем преследовал он газель. И поравнявшись с ней, он, на полном скаку выхватив нож, прыгнул на изогнувшуюся спину антилопы. И пригнув к земле полумесяц ребристых рогов, мальчик полоснул ее лезвием по горлу. И брызнула в лицо ему горячая кровь. И припал он губами к клокотавшему солоноватому родничку. И долго стыл в красивых глазах антилопы ломкий свет надежды, плывущий высоко в небе синим полумесяцем.
И был тем мальчиком он — Аттила. И любил он кровь. И любил охоту. И любил походы. И дружил он тогда с чужими смертями. И любили они его. И с безумным сладострастием брал он их. И гордился собой. И упивался восторгом побед.
И поднялся вдруг ветер. И заметалась каленая пыль по кровной степи его предков. И поднялись дымы из кострищ. И шел он в черных клубах их. И пахло гарью. И пахло смертями и кровью… И расступились вдруг дымы. И увидел он сестру свою. И окликнул он ее. И она бросилась к нему. И он побежал к ней навстречу. И, с хрустом вонзившись в сухую землю, упали между ними оперенные огнем стрелы… И рыжие всполохи воспламененной травы бросили в него горящие снопы искр. И остановили его.
И увидел он двух коней. И черного. И белого. И привязана была к ним сестра его, мать его, и единственный родовой стебелек его. И звала она его — Великого Аттилу. И просила пощады у убийц своих. И жаждой неутоленной жизни, и кровью сердца клокотали слова ее. И ударили убийцы по крупам лошадей. И по белой. И по черной. И понеслись кони в разные стороны…
И горели раскосые глаза душегубов той же страстью, что некогда у того мальчика, припавшего губами к рассеченной гортани антилопы… И застыл в омертвевших глазах сестры, запавший в душу Аттилы, ломкий свет надежды, плывущий синим полумесяцем высоко в ночном небе. И донеслись до него слова сестры, что когда-то смывала с лица и рук его запекшуюся кровь газели.
«Аттила, тебе не жалко убивать? Ведь она была такая красивая. Ей так хотелось жить».
И услышал он ответ свой.
«Жалко. Но потом…»
И предстали перед взором его поля Побед его. И стаи жирных грачей, и скопище черных мух над трупами. И стоны раненых, и берущие за сердце вопли тех, кто находил в ослизлой крови остывшие тела родных своих.
И видел он обезумевшую женщину, смеющуюся над пятью обезображенными телами мужчин. И были то ее сыны и муж.
И мальчика он видел с непохожими на него глазами. И плакал он навзрыд, обнимая труп отца. И непохожие на него глаза с похожими муками и скорбью смотрели в небо. И просил тот мальчик вернуть его отца…
И у пепелища одного из очагов, спаленного его воинами, он видел живой скелет девочки, умирающей от голода. И проехал он мимо нее. И, не спросясь хозяина своего — сына Железной скалы и Огня небесного — его сердце подобрало глаза девочки. И были они также красивы, как и глаза у той газели. И была она деткой ее…
И были то поля побед его. И не стоили они и одной слезинки этого ребенка…
Варвар застонал и открыл глаза. В прыгающем свете факелов сидел колдун Гунал. Он спал и бормотал заклинания. Колдун устал. Который день он с ним и день, и ночь.
Аттила толкнул его и спросил:
— Почему, колдун, я проехал мимо девочки?
Гунал со сна ничего понять не мог. Да и что он мог ответить? Ведь тогда у Аттилы его не было. Царя Аттилу сопровождал другой Аттила. Тот, который со дня рождения жил в нем. И тот Аттила не был охотником. И не снедала его страсть к войнам. И равнодушен он был к бранным победам. И было у него другое сердце — мягкое, любящее, отзывчивое. И мыслил он по-другому. Он бы не проехал мимо заживо умирающего ребенка. А царь Аттила сделал это.
— Хороший сон привиделся тебе, повелитель, — невпопад смошенничал Гунал. — Девочка — это к диву. Тебя ждет чудесное исцеление.
Великий варвар ожег колдуна уничтожающим взглядом. Гунал съежился. Задрожал. Кто-кто, а он знал, что обычно следовало после такого хлыста. Всего лишь один жест. И все.
— Плут! — тихо произнес царь. — И мальчика я видел.
— А это — прибыль, Великий Аттила, — заюлил толкователь. — Большая добыча. Новая победа.
— Да будет тебе известно: то и другое — моя больная совесть, — обдав Гунала презрением сказал царь, а потом, проскрежетав зубами, добавил: