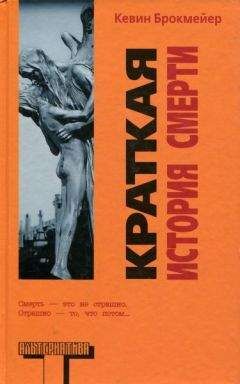Том Перротта - Оставленные
Мы теперь не вправе отвлекаться.
За последние полгода Лори пересмотрела массу презентаций и даже сама принимала участие в создании некоторых из них. Презентации являлись одним из основных способов общения в организации «Виноватых», своего рода мобильной проповедью без проповедника. Лори изучила их структуру и знала, что где-то в середине непременно смещается акцент со вспомогательной темы к той единственной, что только и имеет значение.
«Рождество» принадлежит прежнему миру.
Под этим заголовком промелькнула целая череда изображений, представлявших мир прошлого: универмаг «Уолмарт»; мужчина на самоходной газонокосилке; Белый дом; группа поддержки «Далласских ковбоев»[90]; рэппер, имени которого Лори не знала; пицца, на которую она смотреть не могла; мужчина приятной наружности и элегантная женщина за ужином со свечами; европейский собор; реактивный истребитель; многолюдный пляж; мать, баюкающая младенца.
Прежнего мира больше нет.
Он исчез три года назад.
В презентациях «Виноватых» Восхищение Церкви иллюстрировали фотографии, на которых лица исчезнувших людей были варварски затерты. Некоторые из них пользовались широкой известностью, другие были местные знаменитости. Один снимок в этой серии сделала сама Лори – непостановочная фотография Джилл и Джен Сассман, собирающих яблоки, когда им было лет по десять. Улыбающаяся Джилл держит сочное красное яблоко. У Джен вместо лица пустой овал – бледно-серое пятно в обрамлении ярких осенних красок.
Мы принадлежим новому миру.
На экране одно за другим стали сменяться знакомые лица – неулыбчивые лица членов мейплтонского отделения «Виноватых». Мег, наряду с другими Учениками, появилась почти в самом конце. Лори, поздравляя свою подопечную, стиснула ее ногу.
Мы – живые напоминания.
Двое Наблюдателей, мужчины, стояли на перроне железнодорожного вокзала и смотрели на элегантного бизнесмена, старательно делающего вид, будто их вообще не существует.
Мы не позволим забыть.
Двое Наблюдателей, женщины, шли по улице вслед за молодой матерью, толкавшей перед собой детскую коляску.
Мы будем ждать и наблюдать, доказывая,
что мы достойны выбора господа.
Вновь появились те же две фотографии, но со стертыми лицами Наблюдателей, блиставшими своим отсутствием.
На этот раз мы не будем забыты.
Часы с тикающей секундной стрелкой.
Ждать осталось недолго.
Со стены на них с тревогой смотрел мужчина – немолодой, чуть одутловатый, не очень красивый.
Это – Фил Краутер. Фил – мученик.
Лицо Фила сменила фотография молодого бородатого парня с горящим, как у фанатика, взглядом.
Джейсон фальцоне – тоже мученик.
Лори покачала головой. Бедный мальчик. Он ведь едва ли старше ее сына.
Мы все готовы стать мучениками.
Лори беспокоила реакция Мег, но лицо у той было непроницаемо. Они обсуждали убийство Джейсона и понимали, что подвергают себя опасности каждый раз, когда покидают «поселение». Тем не менее, от слова «мученик» ее бросало в дрожь.
Курение – символ нашей веры.
На стене появилось изображение сигареты – бело-рыжий узкий цилиндр на иссиня-черном фоне.
Давайте закурим.
Одна из женщин в первом ряду открыла новую пачку сигарет и пустила ее по комнате. Одна за другой женщины Синего дома закурили и выдохнули дым, напоминая себе о том, что время утекает и что им не страшно.
* * *Девочки спали долго, и Кевин почти до полудня был предоставлен сам себе. Он немного послушал радио, но веселая музыка раздражала, навевала тоску, напоминая о более счастливых и шумных рождественских праздниках в былые годы. Лучше уж выключить радио, решил Кевин, почитать газету и выпить кофе в тишине, делая вид, что это самое обычное утро.
Эван Болзер. Это имя нежданно-негаданно само собой выплыло откуда-то из глубин памяти. Он как раз так и делал.
Болзер был давний университетский приятель Кевина. Спокойный наблюдательный парень, на втором курсе он жил с Кевином на одном этаже в общаге. Держался особняком, но во время весеннего семестра они с Кевином вместе посещали лекции по экономике. У них выработалась привычка пару вечеров в неделю заниматься вместе, после чего они шли в бар, где съедали по тарелке крылышек и выпивали несколько бокалов пива.
Болзер был интересным в общении – умный, ироничный, на все имел свое мнение, – но близко к себе никого не подпускал. Он охотно говорил о политике, о фильмах, о музыке, но мгновенно умолкал, как партизан, стоило кому-то задать ему вопрос о его семье или о том, как он жил до поступления в университет. Прошло несколько месяцев, прежде чем Болзер проникся доверием к Кевину и рассказал ему кое-что о своем прошлом.
У некоторых дрянное, но интересное детство. У Болзера детство было просто дрянное: отец ушел из семьи, когда ему было два года; мать беспробудно пила, но обладала достаточно привлекательной внешностью, и вокруг нее всегда вился какой-нибудь мужчина, а то и двое, хотя они редко задерживались надолго. Нужда заставила Болзера в раннем возрасте научиться заботиться о себе: если он не готовил еду, не ходил в магазин, не стирал, значит, никто другой за него это не делал. При этом каким-то образом ему удавалось великолепно учиться в школе, он получил хороший аттестат, что позволило ему поступить в Университет Раджерса, где ему предоставили полную стипендию. Хотя Болзеру все равно, чтобы прокормиться, приходилось убирать грязную посуду со столов в кафе «У Беннигана».
Кевин поражался жизнестойкости своего друга, его способности не пасовать перед невзгодами. История Болзера заставила его понять, насколько в сравнении с ним ему самому повезло: он вырос, не зная нужды, в полноценной, состоятельной, относительно счастливой семье, где его окружали любовью. Первые двадцать лет своей жизни он принимал как данность, что все всегда должно быть хорошо, что стоит ему упасть, как кто-нибудь непременно его подхватит и поможет снова встать на ноги. Болзер ни на минуту не допускал такой возможности: он знал наверняка, что можно упасть и больше не подняться, что люди вроде него не вправе позволить себе даже минутной слабости, не вправе совершить ни одной серьезной ошибки.
Несмотря на то, что они дружили на протяжении всех лет учебы, Кевину ни разу не удалось уговорить Болзера провести День благодарения или Рождество в кругу его семьи. И это было печально, ведь Болзер прекратил общение с матерью, говорил, что даже не знает, где она теперь живет. Он никогда не строил никаких планов на праздники, разве что собирался справлять их в одиночестве в своей крошечной квартирке, которую он снимал за пределами кампуса с начала третьего курса, и надеялся скопить немного денег на то, чтобы приготовить себе праздничный ужин.
– Не волнуйся за меня, – всегда говорил он Кевину. – Я не пропаду.
– И что же ты будешь делать?
– Ничего особенного. Читать, наверно. Телик смотреть. Как обычно.
– Как обычно? Но это же Рождество. Болзер пожимал плечами.
– Нет – если я не захочу.
В какой-то степени Кевина восхищало упрямство Болзера, его нежелание принимать то, что он расценивал как благотворительность, даже от верного друга. Но ему не становилось легче оттого, что он не мог помочь. Он приезжал домой, сидел за большим столом в кругу родных, все болтали, смеялись, ели, и вдруг ни с того ни с сего перед глазами всплывала унылая картина: Болзер сидит один-одинешенек в своей похожей на тюремную камеру каморке с опущенной шторой на окне и ест лапшу быстрого приготовления.
По окончании университета Болзер продолжил учебу на юридическом факультете, и на каком-то этапе Кевин утратил с ним связь. Сидя на кухне в это рождественское утро, он подумал, что было бы интересно поискать Болзера на просторах «Фейсбука», выяснить, чем он занимался последние двадцать лет. Может быть, Болзер теперь женат, стал отцом, у него полноценная счастливая жизнь, в которой ему было отказано в детстве и юности, он любит и любим. Пожалуй, он оценил бы иронию, если б Кевин признался ему, что это он теперь прячется от праздников по методу Болзера – и вполне успешно.
Но потом вниз спустились девочки, и Кевин забыл про своего давнего друга, потому что в доме сразу запахло Рождеством, сразу появилось много дел – вытяхнуть чулки, развернуть подарки. Эйми высказала мысль, что с музыкой в доме было бы веселее, и Кевин снова включил радио. На этот раз рождественские гимны его не раздражали. Банальные, знакомые, жизнеутверждающие, они создавали праздничное настроение.
Подарков под елкой было не так уж много, – во всяком случае, гораздо меньше, чем в былые времена, когда дети были маленькими и они всей семьей открывали их все утро, – но девочки, казалось, были не в обиде. Они подолгу возились с каждым подарком, рассматривая коробку, неторопливо разворачивая бумагу, словно надеялись получить дополнительный приз за аккуратность. Одежду примеряли прямо здесь же, в гостиной. Натягивали рубашки и свитера поверх пижамных топов – у Эйми это была полупрозрачная маечка, – делали друг другу комплименты, восхищаясь тем, как здорово сидят на них обновки, ахали и охали даже по поводу такой ерунды, как теплые носки и пушистые тапочки. В общем, они радовались от души, так что Кевин даже пожалел, что не купил больше подарков, – просто чтоб продлить удовольствие.