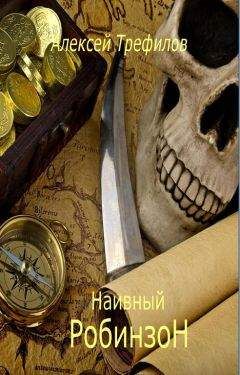Дэвид Митчелл - Голодный дом
Темнокожее лицо в темноте. Будто охотник, следящий за загнанным зверем, она наблюдает, как я слежу за ней; души соединены зрительными нервами. Маринус-Хоролог, убийца Ионы, принесшая смерть в нашу твердыню. Да, я ее ненавижу. Ненавижу – пустой, незначительный глагол. Ненависть не просто обволакивает душу, но замещает ее; желание изувечить, растерзать, уничтожить и убить эту женщину превращается из чувства в мою суть.
– Я предполагала, что вы с братом вдвоем на меня нападете, – шепчет она похоронным тоном. – Он наверняка надеялся, что вы его поддержите. Почему вы этого не сделали?
Это начало конца.
– Его стратегия была порочна, – хриплю я; горло перворожденного тела пересохло. – Если бы мы проиграли, то оба превратились бы в…
Перевожу взгляд на пепел под ногами, встаю, разминаю затекшие суставы и отступаю на несколько шагов, чтобы оказаться точно напротив Маринус на равном расстоянии от свечи.
– А если бы мы победили, то погибли бы при коллапсе лакуны – время внешнего мира уничтожило бы наши перворожденные тела. Иона с детства отличался неосмотрительностью – наделает глупостей, а потом ждет, что я порядок наведу. Вот только в этот раз не получилось.
Помолчав, Маринус произносит:
– Примите мои соболезнования.
– Мне претят ваши соболезнования, – невыразительно говорю я.
– Да, скорбь больно ранит. У каждого опустошенного вами человека были родные и близкие, которые страдают так же, как вы сейчас. Вот только им некого обвинять, некого ненавидеть. Вам же знакома пословица, мисс Грэйер: «Кто с мечом к нам придет…»{54}
– Давайте без цитат обойдемся. Почему вы меня до сих пор не убили?
Лицо Маринус принимает выражение: «Ах, это очень сложно объяснить».
– Во-первых, последователи Глубинного Течения – не хладнокровные убийцы.
– Да-да, разумеется, сначала надо спровоцировать врага на нападение, а потом утверждать, что вы убили, защищая свою жизнь.
Лицемерка этого не отрицает.
– Во-вторых, я хотела попросить вас об одолжении. – Она указывает на высокое зеркало. – Откройте, пожалуйста, внутреннюю апертуру и выпустите меня отсюда.
Значит, она не всемогуща и не всеведуща. Нет, я не собираюсь объяснять ей, что после смерти операнда апертуру мне не открыть. И подтверждать, что зеркало – это апертура, тоже не собираюсь. Мало ли, вдруг она не знает этого наверняка. Воздух в лакуну не поступает. Представляю себе Маринус, умирающую от удушья, вызванного нехваткой кислорода на чердаке. Умиротворяющее зрелище.
– Ни за что не открою, – отвечаю я.
– Я особо и не надеялась, – признает она. – Хотя это было бы элегантнее запасного плана. Впрочем, он тоже никаких гарантий не дает.
Она подступает к свече, засовывает руку в карман брюк. Я собираю остатки психовольтажа, готовлюсь к защите. Однако она достает не орудие убийства, а смартфон.
– Ближайшая сеть в будущем, в шестидесяти годах отсюда, – напоминаю я. – Сигнала во внешний мир апертура не пропускает. Ах, какая жалость!
Смартфон заливает холодным сиянием темнокожее лицо.
– Я же говорю, никаких гарантий, – замечает она и направляет смартфон на апертуру; смотрит, выжидает, проверяет экран, морщит лоб, чего-то ждет, ждет, обходит свечу и пятно сажи, опускается на корточки у апертуры, изучает поверхность зеркала; снова выжидает, потом прижимает ухо к стеклу, ждет, а потом вздыхает: – И впрямь никаких. – Прячет смартфон в карман. – Я спрятала полкило взрывчатки в кустах у внешней апертуры. Помните, у меня холщовая сумка была? Вы поняли, что чего-то не хватает, когда мы под глицинией проходили, пришлось вас отвлечь. Я надеялась, что взрывом разрушит апертуру, но либо детонатор на сигнал не среагировал, либо ваш операнд слишком прочен.
– Примите мои соболезнования, – произношу я, не скрывая удовлетворения. – А еще одного плана у вас нет? Или доктор Айрис Маринус-Фенби все-таки сегодня умрет?
– Да-да, сейчас, по давней традиции, должна произойти еще одна впечатляющая битва между добром и злом. Однако, поскольку мы вряд ли придем к соглашению, кто из нас олицетворяет добро, а кто зло, а наградой победителю будет медленная смерть от удушья, предлагаю традицию презреть.
Ее неуместное, напускное фиглярство ужасно раздражает.
– Впрочем, для вас смерть – всего лишь краткая пауза.
Она обходит свечу и усаживается на место, отведенное для наших гостей, – прямо напротив апертуры.
– На самом деле все несколько сложнее, но в принципе вы правы, мы возвращаемся. Кто рассказал вам о Глубинном Течении – Эномото или сеид?
– Оба наших наставника о вас знали. А почему вы спрашиваете?
– С дедом Эномото я в прошлой жизни встречалась. Не человек, а злобный демон. Вам бы он понравился.
– Вы запрещаете нам то, чем пользуетесь сами, – говорю я. Голос хрипит и срывается; жажда замучила.
– Вы убиваете ради бессмертия. А мы к нему приговорены.
– Ах, приговорены? Можно подумать, вы с радостью откажетесь от метажизни ради нескольких жалких, убогих десятилетий, отведенных простым смертным.
Отчего я так устала? Наверное, все силы уходят на то, чтобы не поддаваться Скорби. Сажусь в шаге от своего обычного места.
– А почему вы, Хорологи, ведете эту… это… – Нужное слово ускользает, оно арабское, но сейчас широко употребляется в английском. – Этот… джихад против нас?
– Мы защищаем святость жизни, мисс Грэйер. Не нашей собственной, а чужой. Наша цель в том, чтобы и в будущем оберегать жизнь ни в чем не повинных людей, которых вы убили бы ради того, чтобы продлить свое существование. Будущие сестры Тиммс, Гордон Эдмондс, Бишопы – все они уцелеют. В этом и заключается наше призвание. Метажизнь без цели – всего-навсего бессмысленное утоление голода.
Какие еще Бишопы?
– Мы всего лишь хотели… – начинаю я, но голос ослабел, дрожит и срывается. – Мы всего лишь хотели выжить. Это здоровый животный инстинкт…
Маринус презрительно морщится:
– Фу, даже не начинайте. Надоело. Такие, как вы, все время упирают на здоровый инстинкт, закон природы, естественный отбор, мол, кто сильнее, тот и прав… Одно и то же, год из года…
Суставы горят от боли – колени, локти. Раньше такого не было. Что со мной происходит? Наверное, это Маринус виновата. И куда подевался Иона?
– …как стая стервятников…
Женщина продолжает говорить, но мне приходится напрягать слух. А погромче она не может?
– …феодалы, работорговцы, олигархи, неоконсерваторы и такие вот хищники, как вы, подавляют в себе совесть, избавляются от нравственного закона.
Левое запястье ноет. Подношу руку к глазам и в ужасе замираю. Кожа обвисла уродливым рукавом. Ладонь и пальцы… старческие. Подозреваю, что это жуткая иллюзия, нарочно созданная Маринус, чтобы меня запугать. Вглядываюсь – с неподобающим усилием – в апертуру. Оттуда на меня ошарашенно глядит седая старуха.
– Взрывом апертуру не разрушило, но трещина в ней появилась. Вот тут, прямо посередине. Видите? – Она опускается на корточки рядом со мной, проводит пальцем по толстой черте. – Вот. Сквозь нее из внешнего мира сочится время, мисс Грэйер. Как ни прискорбно, каждые пятнадцать секунд вы стареете лет на десять.
Она говорит вроде бы по-английски, но о чем?
– Ты кто?
Женщина уставилась на меня. Да как она смеет?! Это же невежливо! Неужели негров с детства не обучают элементарным правилам приличия?
– Я – кара, мисс Грэйер.
– Кара? Кара, приведи… приведи… – Я знаю его имя. Я знаю, что знаю его имя, но оно меня знать не желает. – Приведи моего брата. Немедленно. Он все устроит.
– Увы, мисс Грэйер, – говорит Кара. – Вы теряете рассудок.
Она встает, берет наш… как это называется? В него свечу вставляют! Она его украсть хочет?
– Поставь на место! Не тронь!
Хочу остановить ее, но не могу двинуться с места – ноги не слушаются, бессильно елозят по грязи на полу. Почему здесь так грязно? Где горничная? Кто пустил сюда эту негритянку? Кто позволил ей взять наш подсвечник? О, вот оно, слово – подсвечник! Это семейная реликвия. Ей три тысячи лет. Она старее Иисуса Христа. Она из Ниневии.
– Позови Иону! Немедленно!
Негритянка замахивается этой штукой, будто… как… чем-то, ну, вы знаете… и ударяет по зеркалу.
В расколотую апертуру струится дневной свет, залетают снежинки, устилают половицы, роятся в темных углах чердака, как любопытные школьники. Мое тело сморщилось, опало, будто сдувшийся воздушный шар, полный костей. Над ним парит моя душа, спущенная с привязи, отстегнутая, высвобожденная из обезумевшего рассудка. Маринус, не оглядываясь, входит в апертуру, а чердак растворяется в зимнем небе над безымянным городом. Все кончено. Душа Норы Грэйер, больше не скованная перворожденным телом, тоже вот-вот растворится, но пока еще парит в воздухе над местом, которое еще недавно занимал чердак Слейд-хауса. Моя жизнь кончена? Это все? Нет, ведь мне были положены еще долгие-долгие годы. Неужели все мои ухищрения были напрасны? Я ведь так старалась! Я заслужила… Смотрю вниз: крыши, автомобили, чужая жизнь. Женщина с украденным подсвечником в руках надевает зеленый берет и уходит по проулку. В беспокойном воздухе ни прощания, ни похоронного гимна, ни благой вести – только снег, снег, снег и неумолимое притяжение Мрака.