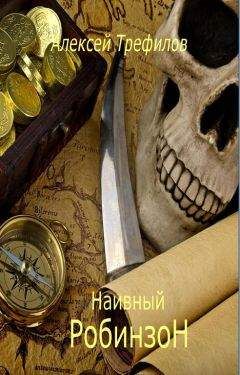Дэвид Митчелл - Голодный дом
Иона ослабляет контроль над оризоном, чтобы не растрачивать психовольтаж попусту, – мудрое решение. А вот то, что он намерен атаковать Маринус, – решение опрометчивое. Этого делать ни в коем случае нельзя, она наверняка к этому готова.
– Признаюсь, мы в растерянности, – говорю я. – Кто вы? Представьтесь, пожалуйста.
– Я – это я, мисс Грэйер. Айрис Фенби, родилась в тысяча девятьсот восьмидесятом году в Балтиморе. Имя Маринус добавлено позднее, по семейной традиции, но это долгая история. Моя семья переехала в Торонто, я поступила на медицинский факультет, изучать психиатрию. Вот и все.
– Но вы – телепат, владеете глифами… – продолжаю я. – Вам известно, что это?
Направляю в ее сторону слабую психоволну. Маринус с легкостью перебрасывает ее на бутылку «Эвиан», бутылка падает, подкатывается к краю столика, но исчезает, не успев свалиться на пол.
– Ах, Иона, да мы с нашей гостьей – три горошины в психозотерическом стручке! – с улыбкой восклицаю я.
Маринус не смешно.
– Нет уж, увольте, мисс Грэйер. Не надо меня в свой стручок засовывать. Я не обращаюсь с людьми, как с одноразовыми перчатками. Бедного Марка – того самого, который себя Бомбадилом называл, – вы даже не поблагодарили, просто выбросили его, будто мусор, и дело с концом.
– Да уж, взойдя на высокую и превознесенную гору{52} милосердия Божия, легко заботиться обо всех и каждой из семи миллиардов хнычущих, блюющих и похотливых тварей, именующих себя человечеством, – язвительно замечаю я.
– А вы и рады этим свои поступки оправдывать, – говорит она.
– Да неужели? А откуда вам известно, кто мы такие и как нас зовут?
– Вопрос, конечно, интересный…
Маринус достает из кармана летной куртки какое-то устройство и показывает нам. На корпусе надпись: SONY.
– По-моему, один из вас этот цифровой диктофон видел. Полагаю, это были вы, мистер Грэйер. – Она поворачивается к Ионе, тот вглядывается. – Да-да, смотрите повнимательнее. Может быть, что-нибудь и припомните.
Маринус нажимает кнопку, звучит уверенный женский голос: «Интервью с мистером Фредом Пинком в пабе „Лиса и гончие“, суббота, двадцать восьмого октября две тысячи шестого года, девятнадцать часов двадцать минут…» Фрейя Тиммс. Маринус выключает диктофон. Выражение наших лиц не требует объяснений.
– У нее была жизнь, – говорит Маринус, с трудом сдерживая гнев. – У нее была любимая сестра. Помните, как ее звали? Говорите, не стесняйтесь. Что, стыдно?
Ошеломленный Иона словно бы утратил дар речи. Так ему и надо, дуралею! Девять лет назад, в роли Фреда Пинка, он расхвастался перед Фрейей Тиммс в моем оризоне, созданном по образцу и подобию паба «Лиса и гончие», и тем самым протянул нить Ариадны, которая и привела доктора Маринус в самое сердце нашего операнда. Наконец мой брат приходит в себя и, разумеется, спрашивает совсем не то, что надо:
– Откуда это у вас?
Маринус презрительно смотрит на него и поворачивается ко мне.
Я без малейшего смущения гляжу ей в глаза и говорю:
– Фрейя Тиммс.
Она сверлит меня взглядом, потом всматривается в полупрозрачные жалюзи на призрачном окне:
– А ночи здесь темные. Мы на чердаке Слейд-хауса?
Я молчу.
Она отвечает на вопрос Ионы:
– Да, ваш «крематорий» избавляется от тел, а вот неорганические предметы проскальзывают в щели. В прошлом оброненные пуговицы и заколки для волос значения не имели… – Маринус, обернувшись к нам, подкидывает диктофон на ладони. – А в этом веке ангелы и впрямь умещаются на булавочную головку, а жизни многих тысяч – на флешку. Нас мало, мисс Грэйер, но у нас хорошие связи. И подобные вещицы рано или поздно нас находят, – говорит она, пряча диктофон в карман.
Я начинаю догадываться, кто она. Эномото-сэнсэй упоминала о неких «мстителях» из Вневременных, которые с патологическим упорством уничтожают таких же, как они.
– «У нас» – это у кого? – спрашивает Иона.
– А вы у сестры поинтересуйтесь. Она с миром лучше знакома.
Я не спускаю глаз с Маринус.
– Она из Раскольников.
– Тепло.
– Le Courant Profond, – предполагаю я. – Глубинное течение.
Руки у нее свободны, глифы она может в любой момент начертать.
– Теплее.
Мне уже надоела дурацкая игра в шарады.
– Вы Хоролог.
– А что так робко? Побольше яду, мисс Грэйер, – подбадривает Маринус.
Похоже, она, как и мой брат, обожает дешевый бурлеск. Что ж, может быть, как и мой брат, она допустит ошибку.
Иона, как и следовало ожидать, понятия не имеет о Хорологах.
– Она что, часовщик?
Маринус смеется – искренне и беззлобно:
– Мисс Грэйер, теперь мне почти ясно, почему вы так долго терпите выходки этого неразумного юнца, несостоявшегося канцеляриста, бесталанного актеришки, мелкой шавки, возомнившей себя волком. Строго между нами, согласитесь, он ведь мертвый груз, балласт, кандалы, ярмо и альбатрос на шее. У него даже имечко подходящее – Иона{53}. Знаете, как ваш сеид своего ученика называл? Самодовольным ничтожеством, вот как. И добавлял, что у него ума – как у поросячьего дерьма. Честное слово. Единственная заслуга вашего брата – то, что с помощью диктофона Фрейи Тиммс мы вашего бывшего наставника в Атласских горах отыскали. Досточтимый сеид умолял ему жизнь сохранить, пытался откупиться, рассказал нам много интересного. Мы с ним обошлись так же милостиво, как он обходился со своими жертвами. Так что теперь, когда вы окончательно убедились, что Иона представляет для вас смертельную опасность, можно…
Внезапно она умолкает, потому что мой брат, кипящий негодованием, забывает об осторожности и голыми руками выводит глиф пиробласта.
«Не смей!» – телеграммирую я, но в голове Ионы беснуется яростный вопль.
– Не смей! – кричу я во все горло.
Очертания больничной палаты исчезают, остается только длинный чердак Слейд-хауса. Восемьдесят лет метажизни оканчиваются здесь, на распутье. Что делать? Присоединиться к Ионе и напасть на врага, о силе и способностях которого мы не имеем ни малейшего представления? Вдруг Маринус нас неспроста спровоцировала? Вдобавок даже если мы победим, то обречем себя на психоэнергетический голод. Или обречь Иону на смерть в безумной надежде на то, что мне самой удастся уцелеть? Пока Иона безрассудно и опрометчиво опустошает свою душу, выжимая из нее последние капли психовольтажа для того, чтобы испепелить Маринус, я не знаю, что делать…
…Маринус стремительнее мысли создала вогнутое поле зеркального щита; оно вздрогнуло и затряслось от удара, зашипела лава, лицо Маринус напряглось от боли, и на мгновение во мне вспыхнула надежда, – может быть, враг недооценил наши силы; но зеркальный щит выдержал напор, распрямился и отбросил перефокусированный черный свет к его истоку. У меня не было времени ни начертать защитный глиф, ни удержать, ни вмешаться. Иона Грэйер прожил больше 42 тысяч дней, а погиб в долю секунды, от элементарного, ученического приема – впрочем, примененного мастером. Я успела мельком заметить обугленную фигуру брата, оплавленные губы и щеки, напрасную попытку защитить глаза; потом он превратился в черные головешки, они осыпались катышками золы, и пепельная туманность в форме человеческого тела расплылась облаком сажи и осела на половицы, затушив несгорающую свечу.
Решение было сделано за меня.
Сквозь веки моего перворожденного тела вижу свет свечи. Слышу тихое шипение и потрескивание воска, плавящегося у основания горящего фитиля. Значит, время протекло в лакуну. Наш операнд умер. Когда я открою глаза, то вместо Ионы, открывающего глаза, увижу Скорбь. Мы со Скорбью обменялись любезностями много лет назад, в Или, после смерти мамы. Бедняжка, выхаркивая сгнившие легкие, на смертном одре завещала мне заботиться об Ионе, защищать его, потому что я – рассудительная и обязательная. Больше века я держала данное матери слово, оберегая брата так, как несчастной Нелли Грэйер и не снилось. Все эти годы Скорбь ко мне не приближалась, пряталась в людской толпе, но сейчас намерена наверстать упущенное время. Я не питаю никаких иллюзий. Душа Ионы отошла во Мрак, его перворожденное тело – слой сажи у меня под ногами и на ниневийском подсвечнике. Скорбь обрушит на меня колоссальную боль, но сейчас, в эти краткие мгновения, среди руин мертвого операнда и жирных зернистых хлопьев, некогда бывших моим братом-близнецом, я осознаю, что способна с необычайным спокойствием оценить сложившуюся ситуацию. Может быть, это спокойствие – вязкая неподвижность отступившего моря перед тем, как на берег с ревом нахлынет огромная, выше гор и шире горизонта, волна цунами, сметая все на своем пути. Как бы то ни было, этим спокойствием надо воспользоваться. Иона рванулся навстречу верной смерти, и я его не остановила; возможно, это доказывает, что моя любовь к жизни сильнее любви к брату. Вдобавок любовь к жизни – хороший союзник в борьбе со Скорбью; если я сейчас поддамся горю, то не выживу. Убийца здесь, рядом со мной, на нашем чердаке. А где ей еще быть? Я недавно слышала, как она встала, постанывая от боли – так ей и надо! – и проскрипела по старым дубовым половицам к свече, будто кошмарный увечный мотылек. Она ждет, чтобы я открыла глаза. Ничего, пусть подождет.