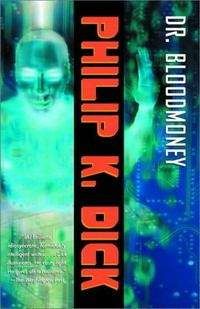Филип Дик - Порог между мирами (сборник)
Он ждал, боясь, что они не откликнутся, но один из них указал ему на проигрыватель–автомат.
— Что с ним? — спросил Хоппи, изучая ремонтный ярлык. — Я уверен, что могу починить его.
— Пружина сломалась, — ответил мастер, — не выключился после последней пластинки.
— Понятно, — сказал Хоппи. Он поднял проигрыватель экстензорами и перетащил его на свободное место на дальнем конце верстака. — Я буду работать здесь.
Никто не протестовал. Он взял плоскогубцы. Это легко, думал он, я тренировался дома. Он сосредоточился на проигрывателе, одновременно краем глаза наблюдая за мастерами. Я проделывал это много раз; почти всегда все получалось, и с каждым разом все лучше и лучше, аккуратнее. И более предсказуемо. Пружина — маленькая деталь, думал он, самая маленькая, какую они смогли найти. Такая легкая, дунешь — улетит. Я вижу, где ты сломана. Молекулы металла не соединены как надо. Он сосредоточился на поврежденном месте, держа плоскогубцы так, чтобы ближайший к нему ремонтник не мог ничего видеть; он притворился, что вытягивает пружину, пытаясь удалить ее.
Заканчивая работу, он понял, что кто–то вошел, встал за его спиной и наблюдает. Он повернулся — это был Джим Фергюссон, его наниматель. Фергюссон ничего не говорил, просто стоял со странным выражением лица, засунув руки в карманы.
— Готово, — нервно сказал Хоппи.
— Дай–ка посмотреть, — сказал Фергюссон. Он взял проигрыватель и поднес его поближе к лампе.
Видел ли он? — гадал Хоппи. Понял ли он? И если понял — что он думает? Возражает он, не возражает — или просто испуган?
Молчание продолжалось, пока Фергюссон проверял проигрыватель.
— Где ты взял новую пружину? — вдруг спросил он.
— Нашел на верстаке, — не моргнув глазом ответил Хоппи.
Все обошлось. Фергюссон если и видел что–то, то ничего не понял. Фокомелус расслабился и почувствовал ликование, полное удовольствие вместо тревоги; он улыбнулся мастерам и оглянулся вокруг в поисках нового задания.
Фергюссон спросил:
— Ты нервничаешь, если за тобой наблюдают?
— Нет, — сказал Хоппи, — люди могут пялиться на меня сколько душе угодно. Я знаю, что я — другой. На меня пялятся с тех пор, как я родился.
— Я имею в виду, когда ты работаешь?
— Нет, — снова сказал Хоппи, и его голос звучал громко, может быть, слишком громко. — Прежде чем у меня появилась коляска, — сказал он, — прежде чем правительство обеспечило меня хоть чем–то, мой папаша обычно таскал меня на спине в одеяле. Как рюкзак. Как индианка — ребенка.
Он застенчиво рассмеялся.
— Понятно, — сказал Фергюссон.
— Так было в Сономе, — продолжал Хоппи, — где я вырос. У нас были овцы. Однажды баран боднул меня, и я полетел в воздух. Как мяч.
Он снова засмеялся; оба мастера молча смотрели на него, прервав работу.
— Держу пари, — сказал один из них после паузы, — что ты приземлился и покатился.
— Да, — подтвердил Хоппи, смеясь. Сейчас они все смеялись: и Фергюссон, и мастера; они представили, как это было: семилетний Хоппи Харрингтон, без рук и ног, только голова и туловище, катится по земле, вопя от испуга и боли. Это выглядело смешно, Хоппи знал и рассказывал так, чтобы было смешно; он заставил их смеяться.
— Теперь–то ты лучше вооружен, — сказал Фергюссон, имея в виду коляску.
— О да, — ответил Хоппи, — и я разрабатываю новую, моей собственной конструкции, сплошная электроника. Я столько читал об управлении непосредственно из мозга, так делают в Швейцарии и Германии. Ты связан прямо с двигательными центрами мозга, так что нет запаздывания, ты можешь двигаться даже быстрее, чем… обычная физиологическая конструкция. — Он чуть не сказал «чем человек». — Через пару лет я усовершенствую коляску, — продолжал фок, — и это будет шагом вперед даже по сравнению со швейцарской моделью. И тогда я смогу выбросить этот правительственный хлам.
Фергюссон торжественно провозгласил:
— Я восхищен твоим мужеством.
Смеясь, Хоппи сказал с запинкой:
— С–спасибо, мистер Фергюссон.
Один из мастеров подал ему ЧМ–тюнер.
— Он дрейфует. Глянь–ка — что можно подрегулировать.
— Ладно, — сказал Хоппи, беря блок металлическими экстензорами. — Я уверен, что у меня получится. Я много раз пробовал дома. У меня есть опыт.
Такую работу он считал самой легкой; ему даже не надо было особо сосредотачиваться на блоке. Как будто ее придумали специально, чтобы показать его возможности.
Взглянув на календарь, висевший на стене в кухне, Бонни Келлер вспомнила, что сегодня ее друг Бруно Блутгельд должен был отправиться к психиатру доктору Стокстиллу в Беркли. Видимо, он уже провел час со Стокстиллом, получил первый сеанс терапии и ушел. Сейчас он, без сомнения, едет назад в Ливермор в свой офис, находящийся в Радиационной лаборатории — той самой, из которой Бонни ушла несколько лет назад из–за своей беременности. Там, в 1975–м, она и познакомилась с Бруно Блутгельдом. Сейчас ей был 31 год, она жила в Вест–Марине, ее муж Джордж стал вице–президентом школьного совета, и она была очень счастлива.
Она продолжала ходить на сеансы психоанализа — раз в неделю вместо трех, как раньше, — и во многих отношениях она понимала себя, свои подсознательные импульсы и паратактические систематические искажения реальности. Психоанализ в течение шести лет сделал для нее большое дело, но полностью она не вылечилась. На самом деле возможности вылечиться не существовало; сама жизнь была болезнью, и постоянное развитие (вернее, явно увеличивающаяся адаптация) должно было либо продолжаться, либо привести к психическому застою.
Она вовсе не собиралась впадать в застой. Прямо сейчас она читала «Закат Европы» на немецком; она уже прочла 50 страниц, и они того стоили. А кто еще из тех, кого она знала, читал эту книгу хотя бы по–английски?
Ее интерес к немецкой культуре, литературе и философии возник несколько лет назад под влиянием знакомства с доктором Блутгельдом. Хотя она три года учила немецкий в колледже, он не пригодился ей в ее взрослой жизни, как и многое другое, что она тогда тщательно изучала. Это откладывалось в подсознании, пока она заканчивала колледж и поступала на работу. Магнетическое присутствие Блутгельда оживило и расширило многие ее академические интересы — любовь к музыке и живописи, например… Она многим была обязана Блутгельду и благодарна ему.
Конечно, сейчас почти каждый в Ливерморе знал, что Блутгельд болен. У него была слишком чувствительная совесть, и он никогда не переставал мучиться со времени ошибки 1972 года, которая, как знали все, кто был тогда в Ливерморе, не являлась только его ошибкой, не была его персональным грехом, но он так считал — и заболел из–за этого, и болезнь усугублялась с каждым годом.
Множество специалистов, качественная аппаратура, лучшие компьютеры были задействованы в ошибочных вычислениях, которые были ошибочными не по отношению к объему знаний 1972 года, но только по отношению к реальной ситуации. Чудовищные массы радиоактивных облаков не выбросило в космос, а притянуло гравитационным полем Земли, и они вернулись в атмосферу. Никто не удивился этому больше, чем персонал Ливермора. Сейчас, конечно, слой Джемисона–Френча изучили подробнее. Даже популярные журналы вроде «Тайм» и «ЮС ньюс» могли доступно объяснить, что и почему было сделано неправильно. Но ведь прошло девять лет…
Подумав о слое Джемисона–Френча, Бонни вспомнила и о главном сегодняшнем событии, которое она чуть не пропустила. Она сразу же пошла к телевизору в гостиной и включила его. Неужели старт уже был, подумала она, поглядев на часы. Нет, еще полчаса. Экран зажегся, показались ракета и стартовая башня, персонал, грузы, оборудование; все это пока находилось на Земле, и, может быть, Уолтер Дейнджерфильд и миссис Дейнджерфильд еще не поднялись на борт.
Первая пара, эмигрирующая на Марс, лукаво подумала она, представив, как чувствует себя в эту минуту Лидия Дейнджерфильд, высокая светловолосая женщина, знающая, что их шансы добраться до Марса составляют, по оценке компьютера, 60 процентов. Они везли с собой великолепное оборудование, просторные жилища и мощные конструкции, но что, если все это и они вместе с ним превратятся в пепел по дороге? По крайней мере, попытка произведет впечатление на Советский блок, которому не удалось основать колонию на Луне. Русские то ли задохнулись все разом, то ли умерли с голоду — никто не мог сказать точно. Как бы то ни было, колония исчезла. Она выпала из истории так же таинственно, как и вошла в нее.
Идея НАСА — послать не группу людей, а только пару, мужа и жену, — страшила Бонни. Она инстинктивно чувствовала, что, делая ставку только на эту пару, НАСА рискует проиграть. Надо было бы послать несколько человек из Нью–Йорка, несколько из Калифорнии, думала Бонни, наблюдая на экране техников, проводящих последние предстартовые проверки. Как это называется? Страховаться от возможных потерь? Так или иначе, не все должно быть поставлено на карту… хотя именно так НАСА всегда делало: один астронавт за один запуск и множество шумихи вокруг. Когда в 1967–м Генри Ченселлор сгорел дотла на своей космической платформе, человечество наблюдало за этим по ТВ, охваченное ужасом, конечно, но тем не менее ему позволили наблюдать. И реакция общества была такова, что освоение космоса западным миром отодвинулось на пять лет.

![Филип Дик - Доктор Бладмани, или Как мы стали жить после бомбы [litres]](/uploads/posts/books/67884/67884.jpg)
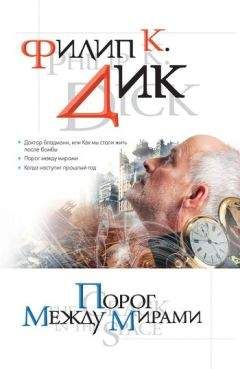
![Филип Дик - Порог между мирами [litres]](/uploads/posts/books/80329/80329.jpg)