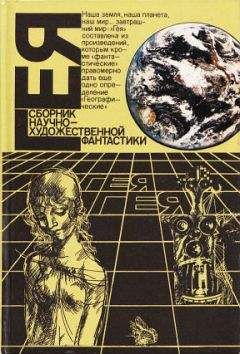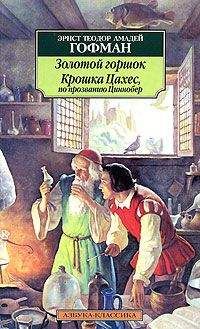Андрей Столяров - Монахи под Луной
– А?.. Не слышу?.. – сказал Саламасов. – Или, может, отправить тебя в подвал?.. Покажи, покажи свой паршивый язык… Справедливости ему захотелось!.. Скажешь, плохо тебе жилось?.. На заводах вас нет – дармоеды, нахлебники… Или, может, тебе – обрезание сделать?..
Неизвестно откуда появились огромные садовые ножницы, и блестящие лезвия их разомкнулись. Прокатился тоскливый скрежещущий звук.
Этот звук как будто подтолкнул Идельмана. У него вдруг задвигались рыхлые корни волос.
– Ненавижу вас!.. – тихо сказал он. – Делайте со мной, что хотите!.. Ненавижу вас и ненавидел всегда!.. За трусливую подлость!.. За ложь!.. За бесчеловечность!.. Ненавижу!.. Душил бы – своею рукой!.. И народ, на который вы вечно ссылаетесь, тоже вас ненавидит!.. Вы послушайте, что о вас говорят!.. Скоро ненависть эта прорвется – кровавыми пузырями!..
Хищный согнутый нос его заострился. Чернотой скопилась щетина во впадинах скул. А глаза побелели до бешеной непрозрачности.
Кажется, он был в беспамятстве.
– Отключите его, – угрюмо сказал Саламасов.
Будто ждавшие этой команды, Циркуль-Клазов и Суховей тут же ринулись с обеих сторон и, облапив тщедушную маленькую фигуру, быстро сделали с ней что-то такое – отчего она сразу же переломилась в паху и, как ватная, начала оседать, – зажимаясь и корчась, икотно захлебываясь словами:
– В-в-ва-а!.. в-в-ва-а!.. б-б-больно-о!..
Темная пахучая лужа натекла между ног. А колени смыкались, дрожа волосатостью чашечек. Это был – август, эпоха социализма.
– Покажите ему «Москву»! – велел Саламасов.
Идельмана подняли, как дряблый мешок. Как мешок, под которым висели гусиные лапки. И одна из них конвульсивно подпрыгивала.
– Танцы!.. Танцы!.. – бессмысленно твердил он.
Завершался определенный период круговорота.
Саламасов загреб со стола аккуратную стопку бумаг и с размаху швырнул ее прямо в нахохлившуюся макушку. И бумаги взорвались, не долетев.
– На! Сожри!..
Лихорадочно заиграла музыка. Худощавый, высокий, интеллигентного облика человек в светлой бархатной куртке, с позолоченной лирой в петлице, с волосами, рассыпанными по плечам, вероятно, художник, – тот что вытащил меня из-под поезда – волоокий, ленивый, надменный, разогнулся перстом – словно тыковку, выдернув за собою Дурбабину, и повел ее в паре, лавируя между столов – прижимая и мучая, изворачиваясь в немыслимом танго.
Локти он отставлял с картинной красивостью. И бесстрастно укладывал свое длинное тело чуть ли не до земли. Ошалевшая растерянная Дурбабина – помаргивала. И сопела, запрокинув массивы лица.
Было видно, что она здорово перепугана.
– Я надеюсь, ты больше не будешь валять дурака, – прошипел вдруг Карась, появившись откуда-то сбоку.
Собственно, я и не собирался.
Мы топтались на узком пространстве, как стадо слонов. Было жарко и тесно, и слышалось какое-то хрюканье. Терлись бедра о бедра, и спины – о мякоти спин. Чрезвычайно мешали столы, протянувшиеся от стенки до стенки. Гладь портретов тревожно взирала на нас. Электрический свет в потолке то тускнел, то опять разгорался. Красный сумрачный отблеск пульсировал за окном. Видимо, демоны захватили электростанцию. Город медленно погибал.
Впрочем, это не имело значения.
Озабоченная Фаина прильнула ко мне, и горячие сдобные руки ее сошлись на лопатках.
– Это – чушь, ерунда, – говорила она. – Главное сейчас, это – не зацепиться. Никакого выпадения эпизодов не произошло. Для «Спецтранса» мы не представляем опасности. И «воскресшие» пока еще не заметили нас. Повторяю, что главное – это не зацепиться. Потому что уже расцветает чертополох. Синегубые призраки выползают из подземелий. Пробуждаются насекомые. Хронос!.. Хронос!.. Ковчег!.. Общий хор, – где не слышно отдельного голоса…
– Что я должен для этого сделать? – спросил я.
– Ничего, – немедленно сказала Фаина. И качнула пирамидальной высокой прической. – Ничего, ничего, ничего. Надо просто – идти по намеченному сценарию…
Черный пар вырывался у нее изо рта. И ворсинки бровей поворачивались – точно живые. А во лбу обрастала наплывами кожи пятикопеечная монета. Третьим глазом. Холодным. Но этого никто не замечал. И никто не хотел замечать. Плыли – топот и хрюканье.
Время уже приближалось к полуночи.
Циркуль-Клазов, стоявший, как статуя, у дверей, вдруг подпрыгнул, ударив себя ладонями по ягодицам, и пронзительно, весело выкрикнул: Ку-ка-ре-еку-у-у!.. – Полы клетчатого пиджака задрались. И захлопали – бешено, будто куриные крылья. – Ку-ка-ре-е-еку-у-у!.. – Гребень крови растекался по голове… Тотчас плотный сосредоточенный Суховей, дураковато приставив указательные пальцы к вискам, весь набычился, словно производитель, и морщинисто округлил волосатые толстые губы. – Му-у-у!.. – мычал он, покачивая башкой. – Му-у-у!.. Спасайся, кто может!.. Сейчас забодаю!.. – И действительно пробовал ткнуть зазевавшуюся Дурбабину, которая с визгом увертывалась. У нее из-под юбки торчал мирно загнутый розовый хвост. И – Батюта испуганно упал на колени, и мяукнув два раза, виляя всем туловищем, принялся очень быстро лакать молоко – по-кошачьи, из блюдечка, поставленного у шкафа. Непонятно, откуда оно появилось. Тем не менее, – настоящее молоко. Оба отпрыска тоже участвовали в компании – распаляясь, подпихивая Батюту коленями: – Пей!.. Достукался!.. Скотина безрогая!.. – А сияющий гладенький Шпунт, заложив обе руки за пояс, подмигнув и отстучав каблуками, неожиданно дернул по кабинету вприсядку – заливаясь, выбрасывая хромовые голенища. – Эх!.. Эх!.. Эх!.. – молодецки покрякивал он. И крутился, играя плечами косоворотки.
Ясным, легким безумием веяло от происходящего. Уплотнялись секунды, дремотные Красные Волосы возникали в щелях. Я увидел, как Саламасов, перехвативший Фаину, вдруг задрал ей воздушное платье и с размаху влепил пятерней по обтянутому шелком заду.
– Так? – спросил он, затравленно оборачиваясь.
А спокойный Художник, державшийся особняком, – старомодный, изысканный – отстраненно поглядел на часы и – прикинув – поднял разведенные брови:
– Так. Но требуется – еще один раз.
И широкая пятерня опять опустилась. Звук был сочный, увесистый.
Видимо, они проводили хронометраж.
Мне казалось, что время понемногу расслаивается.
Я оперся о стол, за которым присутствовал Апкиш, и сказал прямо в синие, выпуклые, безразличные ко всему живому глаза:
– Город – рушится. И мы тоже – рушимся вместе с ним. Человек за человеком спадают – как прелые листья. Слева – слом, справа – вязнущий останов. Или вы надеетесь, что воцарится Младенец? Но Младенец достаточен сам по себе. Он – всесущ. И ему не понадобятся партийные функционеры. Я не знаю, что именно следует изменить. Ложь. Предательство. Неужели вы настолько отравлены властью?
Я, наверное, был в беспамятстве, – сжигая себя. Не по графику. Выломавшись. Тирада моя пропала впустую. Апкиш даже не дрогнул фарфоровым бледным лицом. Все происходящее его, по-видимому, не интересовало.
– Не мешайте, пожалуйста, – холодно сказал он. И открыл небольшую квадратную плоскую пудреницу. – Почему вы решили, что надо обращаться ко мне? Есть вопросы, претензии? Адресуйте их вашему руководству…
Мягкими уверенными движениями он припудривал щеки и нос, – осторожно коснулся бархоткой приплюснутого надлобья, а затем, поворачивая зеркальце на вытянутой руке, равнодушно, внимательно проследил за получившимся результатом. И картина, по-видимому, удовлетворила его. Он кивнул, – как будто соглашаясь на образ.
– Значит, вы не намерены ничего предпринять? – Нет, конечно, – ответил мне Апкиш. – И фигура Младенца вас тоже устраивает? – спросил я. – Мелочь, куколка, – ответил мне Апкиш. – Но из куколки вылупится дикий монстр. – Обязательно вылупится, – сказал Апкиш. – И – сожрет, и оставит от города лишь скорлупу. – Даже меньше, чем скорлупу, – ответил мне Апкиш. – А Ковчег, а Безвременье, а грядущий развал? А скрижали, а демоны, а расстреливаемые в Карьерах? Значит, дело в Корецком? – растерянно спросил я. – Позабудьте о них, – посоветовал Апкиш. – То есть, не процесс дал первоначальный толчок? – Разумеется, нет, – ответил мне Апкиш. – А тогда в чем причина? – спросил я. – А ни в чем. Нет причин. Историческая неизбежность. – Это значит, что сделать ничего нельзя? – Это значит, что делать ничего не надо…
Правая рука его скользнула в карман и через мгновение возвратилась, – обнимая короткое черное дуло. Пистолет заглянул прямо в створки бескровного рта.
Апкиш туго и как-то по-детски зажмурился:
– Черныйхлеб, называемый: Ложь… Белыйхлеб, называемый: СтрахВеликий…
Я не сразу догадался – о чем это он. А когда догадался, то уже было поздно. Свет мигнул, опустившись до желтизны, снова вспыхнул, и полетели какие-то брызги. Выстрела, по-моему, слышно не было. Я лишь видел, что Апкиш лежит на столе и под мраморной белой щекой его собирается лужа. До полуночи оставалось совсем немного.