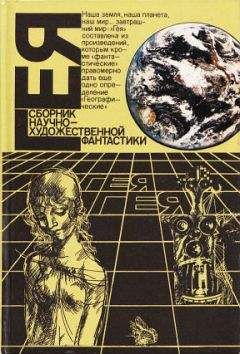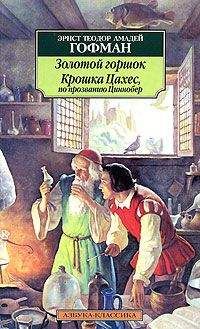Андрей Столяров - Монахи под Луной
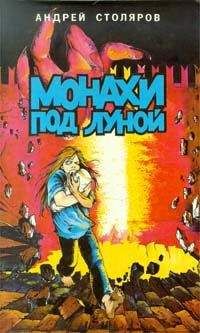
Обзор книги Андрей Столяров - Монахи под Луной
Андрей Столяров.
Монахи под Луной
Не существует такого города,
не существует таких людей,
и не существует времени,
когда все это происходило…
1. Ночью на площади
Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья, пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми зачерненными по краю страницами, клетчатая рубаха вдоль клапана лопнула, штанины легко задрались, оголив бледную немочь ног, он еще дышал – трепетала слизистая полоска глаза. Я нагнулся и зачем-то потрогал его лоб, тут же отдернув пальцы, пронзенные мокрым холодом.
– Циннобер, Циннобер, Цахес… – сказал редактор.
Он был в беспамятстве.
Вдребезги разбитой луной блестели вокруг осколки стекла, с деревянным шорохом выцарапывала штукатурку из стен потревоженная густая крапива, а поверх измочаленных верхушек ее – там, где медленно зажигались чумные метелки соцветий, как гнилое дупло, отворялся под самой крышей одинокий зазубренный провал на лестницу. Вероятно, в последнюю секунду редактор опомнился и уцепился за раму, но петли не выдержали. Третий этаж. Булыжник. Насмерть. Я не знал, чем тут можно помочь. Вероятно, ничем. Я лишь помнил, что это меня не касается и что просто закончился один из этапов круговорота. И теперь я, наверное, уже не смогу отступить.
Приглушенная музыка растекалась по карнизу гостиницы, где в горкомовских апартаментах светился ряд окон и сгибались картонные плоские тени на занавесках. Камарилья гудела. Вероятно, Батюта сейчас по-прежнему громко мяукал и лакал молоко из блюдечка на полу изъязвленным морщинистым языком алкоголика. Вероятно, улыбчивый Циркуль-Клазов по-прежнему хлопал себя ладонями по бокам, резко складывался в пояснице и натужно подпрыгивал, изображая веселого петуха, а промасленный гладенький Шпунт, вероятно, все так же, выбрасывая хромовые голенища, шел вприсядку вокруг стола, умудряясь одновременно заглядывать в крохотные зрачки товарища Саламасова. Вероятно, и сам товарищ Саламасов, наливая свинцовой злобой бугорчатые кулаки, безнадежно и дико хрипел: Сотру в порошок!.. – а Фаина по-прежнему, гостеприимно поддакивая, прижималась к его плечу вылезающей доброй горячей грудью. И, по-прежнему, вероятно, невозмутимо, как чокнутый, сигарету за сигаретой курил синеватый фарфоровый Апкиш, – выпуская красивые кольца дыма, стряхивая пепел в тарелку. Неестественным одиночеством веяло от него. Вероятно, так оно все и происходило. Вероятно. Никто из них даже не поинтересовался шумом снаружи.
Это был приговор.
Карась, опустившийся на корточки рядом со мной, очень тихо почмокал и сказал еле слышно:
– Умрет, наверное… – а потом, оглянувшись, добавил вполголоса. – Тебе бы лучше отсюда уйти. Совершенно не надо, чтобы тебя здесь видели…
Он был прав.
Уже зачирикали у меня над головой, уже зазвенели возбужденными голосами:
– Слышу – крики, удар… Я – выбежал…
– Это, братцы, Черкашин…
– Тот самый?..
– Конечно…
– Ах, вот оно что…
– Разумеется, а вы на кого подумали?..
– Тихо, граждане… Тихо!.. Спокойно!.. Не скапливайтесь!..
Коренастый угрюмый сержант, разделяя толпу, энергично проталкивался откуда-то с периферии – доставая блокнот и толстенный огрызок карандаша. Честно говоря, я не ожидал, что сержант появится так быстро. Честно говоря, не ожидал. В прошлый раз мне, кажется, удалось уйти отсюда. Впрочем, поручиться я, конечно, не мог. В прошлый раз – это все равно, что в прошлом веке. Тем не менее, слом, по-моему, еще не наступил: не вставали еще из-под земли «воскресшие», мутноглазые демоны не выскакивали изо всех щелей. Трое в Белых Одеждах еще не двинулись по направлению к городу. Значит, немного времени у меня оставалось.
Я сказал, оборачиваясь, через плечо:
– Вызовите немедленно «скорую помощь»!
Сержант был не виноват. Или он был виноват меньше всех. Санитары уже протискивались с другой стороны. Меня быстренько отстранили. На мгновение вспыхнула тесная медицинская белизна, проглотившая ручки носилок. Я внезапно очутился один. Все куда-то исчезли. Даже Карась, вежливо и смущенно откашливаясь, пятился под спасительный козырек гостиницы: Ничего не видел… кха –кха… Ничего не знаю… кха-кха… – Чмокнули дверные присоски. Я спиной ощущал полуночную булыжную пустоту за собой. Лунные тени копошились в зарослях. Все пропало. Я остался, как рыба на влажном песке. Что они могут еще придумать? Неужели меня обвинят в убийстве? Невероятно. Но они, пожалуй, способны на все. Потому что в Ковчеге свои законы. Словно зачарованная ладья, плывет он среди бурных свирепствующих стихий. Равномерно поскрипывают тяжелые весла в уключинах, тихо плещется черная смоляная вода, неживыми глазницами зияет скелет капитана, распятый у мачты. Все закончено. Поздно. Спасения нет. Наверняка уже завтра появятся свидетели, которые охотно подтвердят, что я ссорился с редактором буквально за мгновение до смерти, – что орал на него и угрожал расправой. Доказательства будут. В крайнем случае, можно и без доказательств. Тем более, что мы действительно ссорились. Обвинительное заключение. Тюрьма. Камера. Погаснет еще одна свеча. Я только не понимал, почему меня не арестовали сразу. Или, может быть, это – последнее предупреждение?
Скарлатинные полосы света, пробивая крапиву, вознесшуюся до небес, перечеркивали неровную площадь, плотоядно звенели разбуженные комары, гулко кашляла птица, и идол в ремнях, терпеливо выслушивая мое бормотание, крупным почерком исписывал страницу за страницей. Где вы находились в указанное время? Какие у вас отношения с гражданином Черкашиным? Когда вы видели его в последний раз? Он работал крайне добросовестно: формальности необходимо было соблюсти. Вероятно, об этом и говорил Карась, когда намекал, что давление на меня будет возрастать: поначалу отдельные мелкие неприятности, затем – неприятности покрупнее, наконец – ощутимые удары судьбы и в финале – кромешный обвал, погребающий сумасшедшего, который бредет во мраке. Я ведь просто-напросто сумасшедший. Мне давно уже следовало бежать из этого города, – пока в самом деле не наступил еще полный слом, и пока не воцарился Младенец с блистающим скипетром, и пока Железная Дева не коснулась меня своей рукой, и пока я не услышал пугающих слов Гулливера: Черный хлеб, как пырей, именуемый – Ложь… Белый хлеб, точно лунь, именуемый – Страх Великий… – отрешенное бледное запрокинутое лицо, слабость рук, шевелящих холодными пальцами, страшный столб, поднимаемый на вершине холма, и – промозглая серая вогнутая равнина.
Хронос! Хронос! Ковчег!
Я мучительно пытался вспомнить: арестовали меня вчера или нет? Если – нет, то сохраняется еще какая-то небольшая надежда. Мысли у меня – опрокидывались, я вчера был у Лиды, мы выключили свет и по очереди, осторожно шептались, приближая теплые губы к самому уху. Она очень боялась, что нас кто-нибудь ненароком подслушает. Волосы ее пахли старостью, недавно прошел дождь, горизонты очистились, и горькостью размолотой лебеды тянуло в свежевымытые косые рамы. Я отлично все помню. Впрочем, это ничего не значит. Это – «гусиная память», мираж, фантомы за чертой времени. Этого никогда не было. Я погиб. Да, но сегодня утром я проснулся в гостинице, и меня разбудил сосед – мятая обескровленная физиономия, пластилиновые руки, жаждущие соприкосновения: Кажется, вы лично знакомы с товарищем Саламасовым?.. Очень, очень приятно… – Выходит, не арестовали. Выходит, есть еще шанс! Впрочем, это тоже ничего не значит. Небольшие вариации, конечно же, допустимы. Ведь они не угрожают целостности Ковчега. Опасность представляет лишь прямое и открытое действие, идущее против течения. Например, мой побег. Я слушал скрип карандаша, ползущего по бумаге, сердце у меня трепыхалось, как воробей. И я знал, что уже погиб. Никакого побега не будет. Но по-видимому, вчера я все-таки не погиб окончательно, потому что из августовской непроницаемой черноты, будто со дна огромной морской раковины, раздался могучий голос, и голос этот пообещал, что меня еще вызовут в ближайшее время. В нем была очевидная угроза, коренастый сержант хотел, чтобы я ее почувствовал, и я ее почувствовал. Я смотрел, как он уходит, цокая набойками по булыжнику: страшноватое, серо-малиновое, несгибаемое олицетворение власти – траурные густые ветви сомкнулись за ним, зашуршали в горячей листве кропотливые насекомые, я дышал верхушками легких, молотом бухала кровь в больной голове, выступала испарина, прилипали неосторожные комары, и у меня даже не было сил, чтобы стереть их со щек ладонью.
По городу бродило Черное Одеяло.
Беззвучно, как торфяная вода, проступило оно из резного боярышника напротив и, помахивая оборванными фосфоресцирующими краями, очень медленно двинулось через площадь, недалеко от меня, колебля нижней кромкой своею обглоданные травяные былинки. Чудовищная ночная бабочка, вышедшая на охоту. Махаон-людоед невиданных размеров. Одеяло пробуждается в полночь. Обитает оно в полуразрушенной Гремячей Башне за городом – где разломом кончается древняя крепостная стена, по ночам на Башне светится ртутный огонь в бойницах, и доносится странный протяжный размеренный гул, точно от множества пчелиных ульев. Синий дым ползет из подвалов. Это, видимо, не легенды. Это – душа Безвременья. Я увидел, как из соседнего двухэтажного дома с погашенными окошками, будто швабра, обвитый халатом, выбежал человек в стучащих истертых баретках и, волчком крутанувшись на месте, раздувая тяжелые полы, со всего размаху ударился головой прямо в черный клубящийся сгусток. Одеяло пронзительно чмокнуло, поглощая добычу. Я сжал кулаки. Через две-три минуты появится новый зомби. Он очнется, как эпилептик, он поведет вокруг себя глазами из молочного льда, он ощупает липкое вялое желтое слабое тело – он вздохнет, он почешется, он сплюнет тягучей слюной, и резиновый рот его сам собою растянется в довольную и бессмысленную ухмылку. Все хорошо, все отлично, можно не беспокоиться. А затем он вернется обратно, в квартиру – чтоб досыпать.