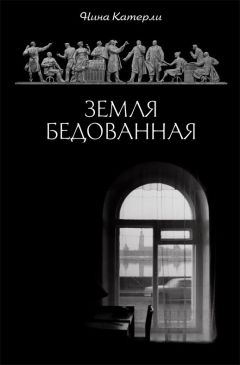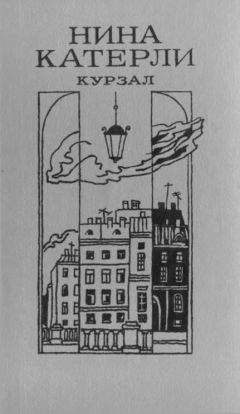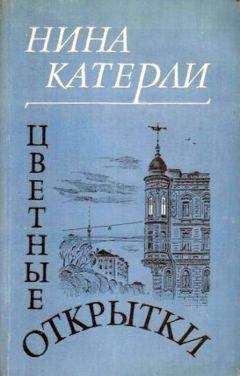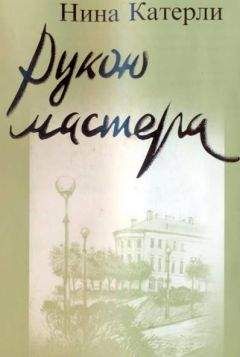Нина Катерли - Земля бедованная (сборник)
До сих пор Максиму везло: судьба не ставила его всерьез в такие ситуации. Валерий Антохин? Это так, пустяки, семечки! Ну, а дальше как? Потом, когда придет старость, когда что-нибудь менять будет уже поздно? Кто тебя тогда защитит? Нет, не от Пузырева, и не от пьяного антисемита, и не от хулигана. От нее: привычной, повседневной, въевшейся в кровь боязни унижения?.. От чертовой духоты.
Туда!
На следующее же утро Максим отправился в ОВИР, захватив с собой вызов, неделю назад на всякий случай заготовленный Осей{103}.
Дома
Конечно, такого сверкающего лакированного пола, как у Антохиных, такого финского мебельного гарнитура со «стенкой», такого бара (откройте дверцу, и внутри загорится лампочка «миньон», осветит ряд бутылок с исключительно иностранными наклейками – хоть сейчас взбивай коктейль), такой коллекции дефицитных новейших изданий{104} – ничего этого в комнате Павла Ивановича не было. Вещи здесь стояли старые, разрозненные. Кресло, например, – дедово кресло с круглой резной спинкой темного дерева – они с матерью привезли в сорок пятом из Белоруссии. Мать рассказывала, что это кресло старше нее. Павел Иванович тоже помнил его с детства – до войны к деду ездили на лето каждый год, в семейном альбоме даже имелась фотография: двухгодовалый Павлик с завязанным горлом важно восседает в дедовом кресле, «читает» толстую книгу, уместив ее на коленях.
Большой письменный стол принадлежал отцу Павла Ивановича, а еще раньше – его отцу, инженеру-строителю. От деда-инженера, не дожившего до революции, остался и чернильный прибор с мраморной доской и двумя, сейчас пустыми, чернильницами; в одной Павел Иванович хранил кнопки, в другой – скрепки. А вот широкий диван, на котором спит Павел Иванович, купили недавно, всего три года назад. Выбирали вместе с матерью, еще поспорили из-за обивки – Павлу Ивановичу приглянулась красная, а мать настаивала на темно-зеленой: красная скоро надоест, утомительно для глаз и вообще больше подходит для будуара… легкомысленной женщины. Купили серьезный зеленый диван. А кровать, на которой мать спала сама, – чуть ли не бабушкино приданое. Деревянные спинки выкрашены в белый цвет, и на них – сиреневые ирисы. Эту старую кровать вместе с таким же сиренево-белым туалетным столиком мать несколько раз порывалась продать в комиссионке или подарить тете Зине – «ни то ни се, сошло бы еще, будь у меня отдельная спальня, а так…» Павел Иванович продавать не дал, а теперь следил, чтобы покрывало всегда было чистым и выглаженным и хрустальные флаконы на туалете не пылились. Берег он и книги в старинных, с золотым тиснением переплетах: словарь Даля, энциклопедию Брокгауза и Ефрона, прижизненное собрание Салтыкова-Щедрина, самого любимого писателя Павла Ивановича, дореволюционных Достоевского, Гоголя, Пушкина. А еще Бальзака. И Диккенса, которого без конца перечитывала мать. Но больше всего было стихов, мать всю жизнь любила стихи: из Пушкина, Ахматовой или Пастернака могла часами читать наизусть. В общем, большая часть библиотеки собрана была еще родителями Павла Ивановича, чудом уцелела в блокаду и стояла теперь рядом с подписными изданиями и техническими книгами, приобретенными позже им самим.
Когда-то школьница Алла брала у Татьяны Васильевны классиков читать по программе. Теперь собственные классики в новеньких переплетах скучали за стеклом ее финского стеллажа, и раз в неделю Валерий чистил их пылесосом: «Почитаем, когда выйдем на пенсию, сейчас некогда, пускай стоят для будущих детей».
У Павла Ивановича пылесоса не было, так и не собрались купить. Как и при матери, раз в неделю он смахивал тряпкой пыль с книжных полок и тщательно протирал стекла двух фамильных портретов в дубовых рамах. Один портрет представлял собой увеличенную фотографию деда в белом халате и докторском колпаке, на другом маслом была изображена надменная дама с высокой прической, бабушка по материнской линии, урожденная Сенявина. Род Сенявиных – старинный, бабушка окончила Екатерининский институт и, как часто повторяла Татьяна Васильевна, «ни разу до самой смерти не позволила себе выйти к столу без корсета. И не сутулилась. Павлик, выпрямись!.. У них в институте девочек каждый день заставляли по два часа выстаивать у стенки, прикасаясь только затылком и пятками, сохрани Бог опустить плечи или прислониться к стене…»
Про корсет и стояние у стенки мать вспоминала всякий раз, как Павел Иванович сутулился или, того хуже, садился за стол в мятой рубашке. И он безропотно вставал и шел переодеваться.
– Сделаться хамом очень легко, – щурилась мать, – а отучиться от этого невозможно.
И даже в самые мрачные дни, когда и есть-то бывало почти нечего, она упрямо стелила на стол крахмальную скатерть и клала на специальные подставки серебряные столовые приборы с бабушкиной монограммой «NS» – Наталья Сенявина.
– Это же никаких денег не хватит на прачечную! – сокрушалась тетя Зина. – Да еще и с крахмалом! Купили бы, Татьяна Васильевна, клееночку, я хорошенькую видела в «Гостином» третьего дня.
Не признавала мать никаких клеенок, и даже теперь, без нее, Павел Иванович продолжал обедать на скатерти, хотя стояние в очереди в прачечной опостылело ему до последней степени.
Над обеденным столом висела небольшая окантованная фотография отца. Снят перед самой войной в Ялте. Белая рубашка с отложным воротником, вьющиеся темные волосы зачесаны назад, темные глаза наивно смотрят в объектив. «Это был удивительно красивый человек, Павлик, все женщины обращали внимание. Он походил на итальянца, и, кажется, там в роду что-то было… Ты, к сожалению, лицом в меня. Вот – считалась дурнушкой, а как любил! Блестящий, великолепный инженер, милостью Божией. И при этом никакого честолюбия, тщеславия, карьера его не интересовала. Здесь ты, к несчастью, похож во всем».
На тумбочке рядом с диваном Павла Ивановича стоял старый радиоприемник «Телефункен». Каждый вечер лет так с четырнадцати слушал Павел Иванович перед сном музыку, ловил заграничные станции, а когда стал постарше – передачи по-английски. Мать одобряла: на английском не опасно, и опять же тренировка в языке. Сама она и английский, и французский знала с детства, так что слушали обычно вместе.
Благодаря приемнику Павел Иванович полюбил и серьезную музыку, начал ходить с матерью в филармонию… Теперь-то не до концертов – кощунством казалось развлекаться, когда мать там… А вот в комнате своей, среди привычных, любимых вещей, расставленных ее руками, он всегда чувствовал себя надежно и уютно, особенно если за стеной не слышно было соседей. Можно прилечь на диван, включить радио, или читать, или просто думать, это ведь очень важно – оставшись одному, сосредоточиться, понять, что происходит вокруг и в тебе самом, что – главное, а что – пустяки, где ты был прав и должен стоять на своем, а где… И как жить.
Павел Иванович с детских лет был убежден, что его дом – самый лучший дом в мире, гордился, когда к нему приходили товарищи, мать встречала гостей радушно, оставляла обедать, и ребята потом говорили: «Как у вас хорошо, богато». А какое там «богато»! Просто мать все умела делать красиво.
Однажды, когда Павел уже учился в институте, начались разговоры, что в Советский Союз приедет с визитом Эйзенхауэр. Визиты иностранцев, тем более американцев, не были тогда таким будничным событием, как сейчас. К Соединенным Штатам благодаря своему приемнику Павел Иванович относился с большим любопытством, поэтому решил, что будет уместно пригласить зарубежного гостя к себе. А что? Ничего смешного! Интересно же президенту посмотреть, как живут простые советские люди, интеллигенты. Не так чтоб уж слишком богатые, но и не бедные ведь! Ему наша комната, конечно, должна понравиться, посидим, попьем чаю из праздничных саксонских чашек, а потом вместе послушаем джаз.
– Ох, Павлик… – только и сказала мать, когда он воодушевленно поделился с ней своими заветными планами. – Ну, а как же ты собираешься довести до сведения генерала Айка, что согласен его принять?
В ответ он задумчиво сказал, что надо, наверное, заблаговременно послать письмо в Министерство иностранных дел, чтобы там учли приглашение и включили соответствующий пункт в программу мероприятий, намечаемых для высокого гостя.
– Дурачок ты, – покачала головой мать, – прямо дитя, а ведь студент уже… Идеалист. Трудно тебе будет.
В последнем она, к сожалению, не ошиблась. А Эйзенхауэр тогда так и не приехал.
Эту субботу Павел Иванович проводил дома. Сверхурочной работы в тресте не нашлось, да и чувствовал он себя в последнее время довольно паршиво, устал, и жара замучила, решил отдохнуть. С утра сходил на рынок, купил все, что нужно, к завтрашнему дню для матери, потом не спеша прибрал в комнате, распахнул было окно, но со двора вместо прохлады хлынул раскаленный затхлый воздух, пахнущий химией, так что пришлось плотно закрыть обе рамы. Павел Иванович решил сегодня не выходить, разве что под вечер добрести до «Сайгона»{105} – так нарекла молодежь кафетерий на углу Невского и Владимирского, чтобы выпить там кофе. Обычно он обедал в столовой на Фонтанке неподалеку от треста. Можно бы, конечно, просто сварить макароны, но для этого надо торчать на кухне, а там сегодня с самого утра истово хозяйничала Алла Антохина.