Нина Катерли - Рукою мастера
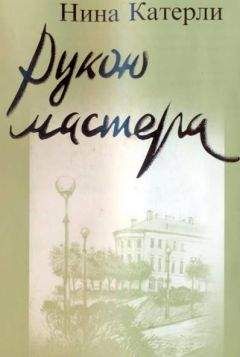
Обзор книги Нина Катерли - Рукою мастера
Нина Катерли
Рукою мастера
Памяти Михаила Григорьевича Эфроса
Рукою мастера
В ночь на 16 сентября 2000 года ушел из жизни Михаил Эфрос — мой муж, самый близкий друг, и теперь я могу сказать об этом (при жизни он мне такие заявления запрещал), в очень большой степени — соавтор.
Нет, мы, конечно, не писали вместе, но часто он помогал мне придумывать сюжеты, неожиданные повороты, был первым читателем и редактором каждой рукописи. Короткий рассказ он читал целиком, длинные вещи — частями, которые я просила его посмотреть, чтобы он просто сказал — нравится или нет, не пишу ли я никому не интересную муть или «дамские сопли» (мое выражение). Часто он давал мне советы «по ходу дела», а оценки всегда были нелицеприятны. Особенно, когда вместо ободрения я слышала: «Ты же сама знаешь — что да, дамские… именно они!» Иногда обсуждение заканчивалось моим криком: «Все! Я этого писать не буду, я, может, больше вообще никогда и ничего не буду писать! Ты не увидел там ничего стоящего, значит, я графоманка?!» и т. д. «Прекрати шантаж, — отвечал он спокойно, — врать я тебе не стану, сколько ни требуй… А вообще-то из этого могло бы кое-что получиться, если бы…» Дальше следовал совет, который я принимала, если он мне нравился, а если не нравился, как правило, позлившись, а потом поняв, что, в самом деле, пишу нечто малопримечательное, бросала начатую вещь, злобно ворча: «Нет. Больше я никогда ничего не напишу, я чувствую! Никогда!» Наступал перерыв… И возможно, благодаря этим перерывам я не написала ничего такого, за что мне потом было бы стыдно.
А через какое-то время я писала что-то другое, показывала и робко спрашивала: «Пройдешься рукой мастера?» Знала: если согласится, значит, понравилось, интересно, и он готов принять в работе участие.
Как это происходило? Про некоторые страницы он говорил, что все, мол, в порядке, делать ему здесь нечего… и все же делал две-три правки — чувство слова (как и чувство юмора) у него было абсолютным. А кое-что вдохновенно «уродовал, как Бог черепаху». И я не могла не признать, что стало явно лучше, а написанное мной было бледным и невыразительным. Или просто неправдоподобным. Это обычно касалось отрывков, а то и нескольких страниц, где речь шла о чем-нибудь, в чем он понимал лучше меня. Политика, например. Или диалог рабочих, с которыми он сталкивался по службе постоянно, а я только те несколько далеких лет, что работала инженером (а это было недолго, да и лексика с тех пор изменилась). Или драка.
Бывало, он предлагал мне изменить сюжетную линию или характер героя, доказывая, что, если все пойдет, как я задумала, будет скучно и банально. Но если вещь ему нравилась по-настоящему, целиком, он рвался домой с работы, чтобы взяться за нее, и мог часами сидеть за столом. А то и целые выходные тратил, отрываясь только чтобы вывести погулять собаку.
Конечно, я не всегда соглашалась с его правкой, он обижался, мы спорили, побеждала обычно «дружба» — то есть, действительно, лучший вариант. Вот чего он, как правило, не трогал, — это любовных сцен. То ли они казались ему скучными, но необходимыми по сюжету, то ли считал, что у меня и так получилось неплохо, то ли… Теперь не спросишь. Знаю одно: обманывать меня и утешать, называя черное белым, не стал бы никогда и ни за что.
Недавно, прочтя один мой рассказ, последний из опубликованных в «Звезде», он почему-то грустно заметил, поправив какие-то мелочи: «Ну, вот, ты и научилась писать без меня». Хотя в романе «Дневник сломанной куклы», который, надеюсь, выйдет в начале будущего года, достаточно его участия. В списке моих сочинений, каждого из которых коснулась его рука, повесть «Курзал» и рассказ «Первая ночь» стоят отдельно. Потому что их мы полностью написали вместе и сказать, кто тут главный автор, просто невозможно. «Курзал» — повесть о его детстве. Не автобиографическая — и главный герой не он сам, и мать, и общая фабула. Но повесть содержит множество подробно рассказанных им эпизодов — реалий жизни их послевоенной коммуналки в Кузнечном переулке, разговоров теток, соседей. То, что придумано или изменено, сделано совместно — мы просто сидели рядом и проговаривали каждую фразу. А потом он еще правил диалоги.
Сюжет раннего короткого рассказа «Первая ночь» придумала я, а характер героя и некоторые случаи из его жизни подсказал он. Да и язык обжигальщика термического цеха Кравцова стал живым, благодаря его вмешательству в мой текст. Грустный этот рассказ в какой-то мере сбылся. Только — наоборот. В рассказе Кравцов теряет жену. У нас вышло иначе. Но дерево из рассказа, дуб, кора которого кажется мне теплой, стоит на Марсовом поле, на том самом месте, где я столько раз по вечерам встречала его, едущего с работы, всматриваясь, не идет ли к остановке сорок шестой автобус.
Это он придумал фамилию «Кепкер» в рассказе «Земля бедованная» и заголовок — тоже его. И многие строчки.
22 сентября, в день прощания, когда отзвучали речи коллег о том, каким замечательным инженером и ученым был Михаил Эфрос, выступил Яков Гордин, один из самых близких наших друзей. И сказал, что уверен — не менее талантливым был бы он, стань, допустим, режиссером (этого ему не позволила, имея в виду «пятый пункт», советская власть) или редактором, или литератором.
Не знаю, как я буду писать теперь. Кто жестко и прямо, но доброжелательно скажет мне правду о том, что я делаю. Скажет, понимая, чего можно ждать и требовать от меня, а на что я просто не способна. Но это уже мои проблемы. Проблемы той, другой жизни, в которой и сама я, очевидно, стану другой, и то, что я смогу (если смогу) написать, — тоже.
Нина Катерли
Курзал
Вот моя лужа. Только тогда было утро. Всю ночь громыхал дождь, водосточная труба у нашего окна захлебывалась, а утром невинно засияло солнце, и я пошел на экзамен в одной рубашке (белый верх, черный низ). Черный низ накануне допоздна утюжила тетя Ина, а тетя Калерия давала ей руководящие указания. Утюжка эта именовалась «отпариванием», целью ее было уничтожить блеск, пузыри на коленях и создать складку на том месте, где положено. До войны имел место печальный случай, когда наша тетя Ина старательно выгладила чьи-то штаны, получив прекрасные складки по бокам, и тетя Калерия это помнила и, когда дело доходило до утюга, задумчиво спрашивала: «Акуля, что шьешь не оттуля?» И еще она ни с того ни с сего говорила, что вот бы забавно посмотреть, как ОН тогда явился домой в таком виде, — а, Георгина? Кто был этот загадочный ОН, я не знаю и, сказать по правде, никогда особенно не интересовался.
А в то утро двадцатого мая я бежал в школу в правильно отпаренных брюках и гремящей накрахмаленной рубашке — воротник ее натирал мне шею. Я торопился на экзамен по русскому письменному за шестой класс. Экзамена я не боялся, настроение было прекрасное, поэтому я и бежал по нашему переулку, как кенгуру. И как раз на этом самом месте оступился и полетел в лужу.
Когда я встал из нее, грязная вода стекала по моим отпаренным штанам, на крахмальной груди, как у голубя, расплывались радужные мазутные пятна, локти были черные. Я стоял не шевелясь и медленно заполнялся безнадежностью, когда вдруг услышал ГОЛОС.
— Так можно и упасть, — чванливо сказал старик.
Он смотрел на меня с осуждением, этот важный, толстый старик в сверкающем пенсне. Одет он был, помнится, в то майское утро так: в зимнее пальто, каракулевую шапку пирожком и белые фетровые бурки. Он держал на поводке маленькую, старую, толстую и тоже какую-то зимнюю собачку, и эта собачонка смотрела на меня с негодованием…
…Сегодняшняя лужа, правнучка той, все же другая. Она образовалась из тающего, растоптанного снега, под ней затаился лед, здесь в самом деле можно упасть, даже если не мчишься как ненормальный, задрав башку в небеса.
Я не мчусь. Я осторожно ступаю, выбирая относительно сухие и шершавые места. На мне зимняя куртка и каракулевая шапка. Правда, не пирожок, а обыкновенная ушанка.
Вечер. Я возвращаюсь домой. Был здесь неподалеку, читал лекцию от общества «Знание» и решил пройтись по своим «детским местам». Это звучит довольно бестолково — «детские места», но уж лучше так, чем «места моего детства». «Места моего детства» похожи на «дни нашей любви» или того хуже — на «путевку в жизнь». От этих наборов меня тошнит, в том числе и потому, что ими меня в детстве, как теперь говорят, «доставала» моя тетя Калерия. «Алексей, — говорила она с вдохновением, — ты должен учиться на «хорошо» и «отлично», только тогда ты сможешь крепко стать на ноги и получить путевку в жизнь».
Тетя Калерия была в нашей семье идеологом и руководителем, тетя Ина (Георгина) — рядовым исполнителем. Я был надеждой, которая, впрочем, вполне может и не сбыться, если не прилагать постоянных и самоотверженных усилий.
— Ты пойми, Георгина, — слышал я, лежа в постели (считалось, что я уже сплю, ибо детям до шестнадцати лет в десять часов положено спать). — Ты пойми, на нас — двойная ответственность, мальчик растет без родителей, а ты всегда упускаешь из виду, что главное — это воспитание души, а не удовлетворение материальных, то есть животных, потребностей. Не забудь, что в здоровом теле — здоровый дух!



