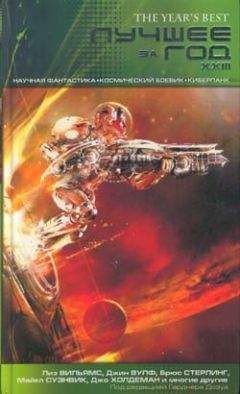Татьяна Мудрая - Кот-Скиталец
«Захотели бы убить – мигом бы нашли, – произнес в душе Артханг, – а то который день плестись заставляют. А если то и не мунки вовсе! Камешки и впрямь, наверное, из одного снежнацкого черепа, вот и хотят снова стоять рядом.»
Им иногда казалось, что идут они все по тем же местам: те же кусты много выше их роста, те же папоротники с плотной оранжевой завязью, которая выметнулась на стебле наподобие руки, сжатой в кулак, – такая никогда не превратится в потаенный цвет и даст семя того же мужского пола, что и отцовское растение, – и те же деревья с удлиненной, блеклой листвой на самом верху и белыми, в пятнах, стволами. Только с иных тяжело свисали как бы круглые, в зеленоватой патине, пятаки и чуть позванивали в стоячем воздухе.
«Деревья погибают всегда одиноко, – думала Серена. – Не то что люди. А может быть, они сплетаются корнями в воде и грязи и передают знание по кругу, по спирали все шире – ради всего болота, во имя всего Леса? И это знание можно подобрать с земли, выкопать из-под нее, как грибницу?»
Сумрачный мир, облачный вечер… И вот когда они в очередной раз поняли, что не могут сегодня идти по вечным зыбям, трясинам и моховым подушкам, деревня коваши сама на них наехала.
Сначала брат и сестра увидели те самые тележки, опущенные на дерн – легкомысленно нарядные, они являли резкий контраст с унылыми деревьями. Главные дома начинались внутри этого «гуляй-города» и были иными: сбитые из грубых, едва окоренных бревен, прочных топляков, они глядели на пришлецов слепыми волоковыми оконцами толщиною в одно бревно. Крыши из древесных же пластин, вылощенных медным «зубом» так, что по ним без задержки стекал дождь, почти упирались в землю, врастали в нее толстыми щупальцами; но если приглядеться, то были угловато выступившие из земли корни тех же высоченных белых деревьев, которые оплетали корзиной, подхватывали все строение и приподнимали его. Впрочем, деревья были уже явно не те (или все-таки те?), что прозябли посреди трясин и на окраинах: скорее пегие, чем белые стволы, а посреди бронзовой зелени местами просвечивало червонно-медное и рыже-золотое.
– Никак, эти дровяные скелеты нянчат хижинки на руках, – пробормотал Артханг. Он опустился рядом с сестрой, повалился набок, чтобы вьюк с палаткой тоже лег на траву и не давил хребта.
– И они куда бодрее, чем на безлюдье, – добавила Серена. – Хотя безлюдье-то как раз тут и есть. Слушай, братик, ты уж прости меня, если мы ненароком влопались куда не следует. Декорация тут самая что ни на есть зловещая.
– Ладно, не стоит помирать раньше времени. Кстати, где они все? Утром значило бы, что не проснулись, днем – в отходе работают. Но вечером добрые Живущие ужинают и спать ложатся.
– Не болтай лучше, а смотри и нюхай. Главное – нюхай, простак!
В самом деле, одна лишь тревога сердца и волнение крови не дали им учуять дым: совершенно незнакомый, густой, едучий и вроде бы земляной. Серене живо представилось ремесло углежогов и смолокуров, которые в закрытых, наглухо запечатанных ямах томят наилучшую, самую драгоценную древесную плоть – ели, кедры, лиственницы, – чтобы добыть чистый уголь, пригодный для благородной стали.
– Малые дети, и верно, крепко спят в такую ночь, и матери держат их у своего сердца, чтобы им не привиделось страшное; потому что эти ночи подобны кхондским ночам полнолуния, – заговорила она нараспев. – А отцы вынимают уголь и раздувают горн, и колдуют над кровью из каменных артерий, над сгустками из болотных вен.
– Откуда ты берешь такие слова?
– Это от коваши, – ответила она шепотом. – Так они говорят о цветных самородных рудах и о болотном железе, из которого отковывают крицы. Я слышу это через свое кольцо, Арт. И очень громко слышу.
– Ручаюсь, другое кольцо – у одного из здешних мужчин. Остаемся здесь или пойдем к нему, что скажешь?
– Пойдем. Ждать – страшнее всего, а ждать того, от чего не уклониться – и того хуже. А я, знаешь, боюсь.
– Я тоже, – ответил он бодрым голосом. – Так что вперед!
Они поднялись. Оба своих тюка, не сговариваясь, присыпали опавшей круглой листвой растущего на околице белого дерева – но не среди корней, которые призывно круглились над почвой, довольно сухой в этом месте, а в чьей-то широкой и уютной норе, покинутой, судя по ароматам, не очень давно.
Когда путешественники подняли головы от поглотившей их на краткое время работы, огляделись и прислушались, над ними в почти полной темноте, неподвижно и низко громыхала слепая ночная гроза.
– Поторопимся, – сказал Артханг, и Серена кивнула. – Когда начнет землю гвоздить, хуже нет оставаться под этими лиственными дылдами. Должны тут быть прогалины, просеки, лужайки – или нет?
Они побежали наугад. Серена вела брата, повинуясь излучению «двоякого камня», маяка в пространстве чуждых морей. Дым ощущался все ясней, пронзительней – а вот появилось между стволов и пламя, темно-красное, тяжкое, как все в здешней вселенной, и как бы покрытое коркой.
Внезапно гром как-то уж очень хлестко рванул тучи – совсем рядом. Молния ударила в вершину. Но дерево не загорелось – только явственно зарозовело от маковки до выгнутых кверху корней; пропустило небесный огонь в землю и само потухло, неярко белея в ночи.
– Серена! Видела? – крикнул запахом брат.
Она молча кивнула: у нее и вообще не осталось никаких слов. Оба как-то сразу оглохли, ослепли и онемели. Не раз побывав – отдельно от матери и прочих зрелых мужей и жен, вместе со сверстниками – на дальних больших озерах, они привыкли к тому, как в ритме Песни Прилива вздымаются волны со сквозным гребнем и плещут в небо, ударяют в серебряный бубен Владычицы, притягивают, отхлынув, сияние Небесного Верха, Хрустального Чертога; раскачивают Лес, извечную колыбель Живущих. Голоса юных кхондов только очерчивали этот невидимый узор, опевали тайну.
Но этой мункской ночью они испытали неиспытанное, увидели невиданное. Внутри глухого и заболоченного леса открылся перед ними широкий утоптанный круг; Артханг, который сразу же отступил в тень, подумал, что на нем собрались, пожалуй, все взрослые мужчины коваши, даже глубокие старцы. В сердцевине толпы неярко пылал тот самый огонь, что они с сестрой угадали издали; он выходил почти что из недр, из полуоткрытой земляной раковины.
(«Ведь это открытая плавильня, – впопыхах подумала Серена, – неподалеку от места, где жгли уголь. Обмазанная глиной яма, в которой дважды плавили крицу, и тут же кузнечный горн.»)
В центре круга темнел силуэт наковальни, поперек его геральдической гербовой полосой пересекла узкая, добела, до голубизны раскаленная полоса. Старый мунк держал ее клещами; молодой, коренастый – отбивал огромным молотом, направляя удары в места, которых касался чеканом (это слово почему-то родилось в Серене) главный мастер, тот, на пальце которого трепетало кармином и багрянцем змеиное кольцо.
А над поляной и наковальней, едва ли не касаясь их, повисло иссиня-вороное небо, и зарницы внутри него вспыхивали в том ритме, который задавал острый молоточек главного кузнеца; всполохи ложились все ближе и ближе, обжигая деревья и уходя по ним в землю, обступая и беря в полон, и грохот их был невыносим. Однако именно тогда, когда брат с сестрой были доведены до предела своих чувств, подобная второму дыханию, пришла к ним обоим сразу властная, подчиняющая своим ритмом песня:
Из прекрасных металлов создал ближний мир
И как ножны украсил кузнец-ювелир,
И назначил тебя сердцем их и путем.
Между молотом и наковальней вложил,
И клещами сдавил, и в огонь поместил,
Извитое железо чтоб стало клинком.
Черная бронза, красная медь,
Знаешь ты солнце, знаешь и смерть,
Белому золоту – ясно звенеть!
Сталь голубая, кромка остра,
Стала душа без упрека храбра;
В этом – сиянье Его серебра!
Ритмично вздыхал глубинный огонь, который раздували подмастерья, в согласии с грозой вздымались меха и груди троих мунков, и вспышки темно-рыжего пламени освещали эту непонятную фантасмагорию.
И вдруг молния, подобная видом дереву, растущему вверх корнями, или смерчу из раскаленной пыли, или расплетенному канату, который загорелся от соприкосновения с небом, вылетела из тучи и вбила себя в клинок. Наковальня, принимая молнию в себя, зажглась розоватым алебастром, а фигуры троих мастеров показались на миг выше облака. И сразу все погасло, окунулось в чернила – только рдел наподобие закатного солнца откованный клинок и ровно, пылко горели оба алых камня.
«Смотри, и твой снежнацкий глаз ожил, а серебро стало пламенем,» – хотел сказать Артханг. И еще он хотел объяснить сестре, что живые громоотводы еще и выкачивают из земли ее лимфу – глубинную воду – и кровь ее вен, которая клубками железа прикипает к корням. И тайный смысл обряда есть создание меча – перешейка между мирами, хотел он объяснить ей, но это было бы пустой тратой слов, зряшным сотрясением блаженно умолкнувшего воздуха. Он наверное знал, что и ей открылась та же тайна.