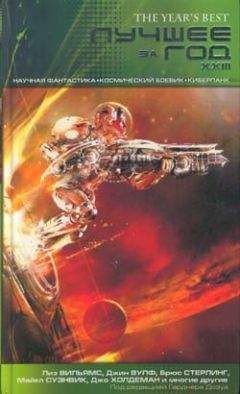Татьяна Мудрая - Кот-Скиталец
– У-йа-а! Кто тебе выдал? Или ты и мункскую родовицу в себе имеешь?
– Не мели чуши. В Лесу подслушать не нарочно – легче легкого. Так вот: почему я не должна учиться умом, а телом – приходится? Душе не поставлены границы, а у тела есть предел, и еще какой: любой хилый кхондский подросток меня мощнее.
– Вот в этом ты вся, ненасыть. Нет чтобы одной половине своей доли радоваться.
– Нашел радость. Да туда, в Лабиринт, входишь как в броне: боишься вдохнуть поглубже, глаза приоткрыть, к своей коже изнутри приблизиться. Эпидемии, пытки, зверства, облавная охота на инакомыслящих… Потом смелеешь: может быть, и плохо, что я стою как бы снаружи этих мерзостей и вообще всего знания – сторонний наблюдатель. А с другой стороны – разве я могла бы жить, если бы всё мое знание сразу загрузилось в меня? Нет, Сила нужна мне не меньше родословия, только пока такая же: стоящая вне меня. И не ради бахвальства. Не спорь со мною, я чувствую!
…В Лесу цветет сирень: белая, голубая, лиловая, пурпурная, аквамариновая и винноцветная, как античное море.
– Как ты хороша, Серена! Если бы молоко нашей матери не стояло между нами – сегодня же бы тебя взял!
– Дурень: тела-то у нас все равно разные. Мы от разных племен: я, по здешним понятиям, то ли андр, то ли инсан, а ты – кхонд.
– Мы вечно повторяем одно и то же. Да если бы дело касалось одной нашей наружности – пошел бы я к снежнакам, они, говорят, колдуны, – и научился бы перекидываться в кого захочу.
– Пошел один такой. Их и не знаючи боятся.
– Правда. Но ради тебя куда угодно отправлюсь и поклянусь в том, чем тебе угодно.
– Замолчи! Слово кхонда – дело кхонда, а мне твои рыцарские подвиги ни к чему.
Они замолчали – на обоих нашла жуть.
– Это ты, Арт, почему вообразил? Насчет оборотней?
– Увидел в шкатулке снежнацкий перстень. Мама не носит, ты не надеваешь – вот я и думаю, почему. Хорош! Имя ему – «День и Ночь». Я еще однажды видел у обезьян знаменитую андрскую «Прихоть», что из Ювелирной Палаты: тамошние ювелиры им тайком принесли оправить. Вышла брошь, и в ней те же цвета, зеленый и пламенно-алый, как бы укутаны в молочное облако и меняются как сами пожелают, в зависимости от своего настроения, а не времени суток.
– Вот он для тебя и получится в самый раз, перевертыш незадачливый. Станешь андром, а блохи твои в кого превратятся: в андриков – цветочных лилипутов?
– Во вшей, наверное. Платяных, самых гадостных.
– Шутим мы все с тобой. А про Снежных Волков я запомню. Не боишься, что запомню, брат мой?
Он молча глядел на Серену карими и влюбленными глазами.
…О щенке в библиотеке – не помню, чтобы я ей говорила. Сказала как-то:
– Тебе дано черпать из чужих душ и разумов, не беря в сердце. Это и преимущество, и изъян: живое дыхание миров тебе неведомо. Поэтому всё Живущее в Лесу к тебе приветливо, принимает тебя, тебе поддается, но ты им не владеешь. На то нужна зрелая сила, а ты пока дитя.
– А у тебя самой есть такая сила?
– Может статься, и есть. Нечто открывается и объемлет меня почти так же, как тебе тебя – твой океан знания. Я становлюсь Лесом, его сердцем – и вижу, куда моя кровь течет нехотя: оттуда уходит жизнь, эту ветку или цветок можно обломить; знаю, какая трава, такая жадная, набрала больше соков для исцеления. Но ведь подобное под силу любому кхонду.
– Они не превращаются в Лес.
– Так ведь и я не фантазирую насчет того, каков камень изнутри, будто обезьянка.
– Ох, мама, если бы твое было дано мне…
– Говорят, предки древних рутенов имели такие способности. Единство с природой, гармония, словом. Ты не пробовала дойти до самых корней, где человек еще не совсем человек, а, так сказать, цыган мироздания, не имеющий своей экологической ниши? Ну, с дерева окарачь слез или из саванны на двух ногах вышел?
– Пробовала. Обрыв там. Ну, тьма, как будто у меня совсем нет предков или разум их неадекватен моему. Не понять.
(«Первородный грех человечества. Это что, так фатально и тотально? – думаю я. – Или просто не было нас, а потом вдруг мы стали?»)
А дочь неожиданно говорит:
– Мама Тати, помнишь, ты говорила, что мунки-хаа напомнили тебе неандертальцев? Помнишь, да?
– Вот оно, кольцо, взяла наконец. Знаешь, как надела его – сразу что-то внутри изменилось. Будто раньше всюду была пелена, только я с ней родилась и ее не понимала, а теперь в пелене прокол, будто от иглы или лучика, и струна изнутри звенит.
– Внушила себе.
– Не знаю… Слушай, Артханг. Ты бы правда со мной пошел в селения коваши? Не напрасно тогда клялся?
– А ты что – до следующего торга не погодишь? Приспичило?
– Месяц назад они свое кольцо забрали, теперь жди еще столько и еще полстолька, и четверть столька… до бесконечности.
– Ну, если ты настолько спятила, что в незнаемую землю рвешься, будто там медом намазано, то надзиратель тебе уж точно понадобится!
– Какой предлог для мамы Тати выдумаем? – говорит Серена погодя.
– Зачем выдумывать? Время кхондов сейчас уплотнилось, и настала пора нам обоим вытряхнуть из себя остатки детства и принять печать взрослости. Мои сверстники давно выдумывают для себя испытания и преодоления, а кое-кто из старших юношей уже испытал свою первую взрослую авантюру.
– Мама не станет тревожиться?
– Нет. Ведь у тебя буду я, у меня – ты. Двое бойцов, которые вместе стоят целого батальона летучих вонючек!
(Негодники, негодники и еще раз негодники! Как все дети, они приняли желаемое за действительное. Не определили передо мной конкретную цель своих похождений; то же и с кольцом – позаимствовали втихомолку. Конечно, «виноград» был подарком Серене, и носить она его могла сколько влезет, хотя и не носила; но начать с того, что взять его в незнаемо какую эскападу вместо компаса – это еще додуматься надо.
Слушай, а утешило бы тебя, если бы дети пропали, а кольцо осталось?
– Не благодари, – намекнул мне дошлый мунк. – Дар может оказаться двусмысленным.
…Уже оказался.)
Земля змеиных лесов и болот, голубого лишайника, зеленовато-белого сфагния, громадных плаунов толщиной с мункскую косу и раскидистых папоротников, что раз в три года выбрасывают диковинные буро-вишневые соцветия, похожие на орхидеи. Дети попрощались с матушкой чинно, а на мункскую тропу свернули тайно, с воровской прытью. И налегке: в поиск самого себя с большой кладью ходить не пристало, лесные жители, все-таки. И идут по лесу, «где под каждым под кустом им готов и стол, и дом». Вот только болото – не особо дом родной. Еда здесь где попало не произрастает и под ногами не валяется.
Полустертые следы от широких ступней и от полозьев дареных кхондских волокуш тянулись недолго, будто и мунки, и их обоз погрузились в свои домики и полетели в метре от земли, как бывает это в счастливом детском сне. Можно было без конца натыкаться на скудные остатки становищ и поселений, на места, некогда угретые Живущими, а теперь насквозь проросшие болотной растительностью, что едва не мгновенно затягивает раны здешней земли, – и не находить ни самих Болотников, ни направления, в котором они ушли. Посреди топей обнаженные, наполовину мертвые деревья постукивали белыми ветвями без коры, еле выгоняя тихую зелень из самой вершины. Осока на берегу «окон» ниспадала книзу, купалась в блестящей маслянистой черноте. Почва под ногами колыхалась и сочилась водой – сплошные кочки, сердилась Серена. Артхангу, с его четырьмя точками соприкосновения, было куда легче, но зато его сестра была куда более чутка к опасности, и лишь благодаря ней они сразу же не оказались по шею в трясине. Потом-то Серена и шесты выстрогала, и круглые лыжи соорудила из корья – дело привычное.
Сама она шла в парусиновой куртке и штанах собственного изготовления, Артханг же, по ее совету, запасся комбинезоном наподобие рутенских «собачье-выставочных». Однако безмозглый гнус изъел их тотчас же и в масштабах, культурному кхонду совершенно непривычных. Серена обтирала братику голый нос и прыскалась сама особой вытяжкой, проверенной в Лесу экспериментально, однако вытяжка, бывши приготовлена из пиявочного секрета, упомянутых только что водных тварей не отпугивала, а напротив, манила по-родственному. Приходилось на каждом привале осматривать одежки изнутри: целебные пиявки походили на молодой шипастый огурчик, их следовало посылать в болото куда вежливей, чем простых, плебейских, видом сходных с ожившей и извивающейся граммофонной трубой. Кроме того, сестра постоянно расчесывала братца той же ежеподобной щеткой из махагона, что и свои волосы, отчего Арт немыслимо похорошел, а Серена слегка порыжела в краснину. Шла уже вторая щетка, первая от неопытности сломалась на третий день: плотность Артхангова волосяного покрова была – пулей не пробьешь, была бы пуля.
Побаивались и змей. Здешние, толщиной в палец, красивого янтарного, изумрудного и кораллового тона, считались Средне-Разумными; однако тянулись к теплу костра или тела без оглядки, как мотылек на свечу, а ведь едва придавишь – куснут еще с перепугу, чего доброго. Противоядие у наших странничков было, но немного.