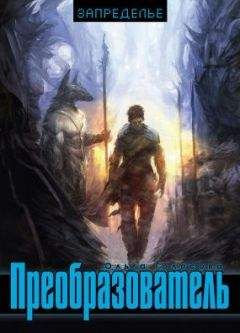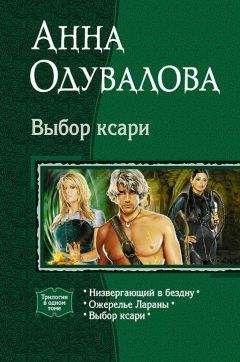Ольга Голосова - Преобразователь
— Вот, держи. Это то, за чем пришел. Отец твой клятву страшную с меня взял, умереть не могу, пока не выполню. А теперь — все. Цыганка вздохнула и поправила сползший на затылок платок. Звякнули золотые монетки на его бахроме.
— Слушай сюда, — она наклонилась, и я почувствовал запах старости и табака. — Много лет назад наш народ жил далеко отсюда, в Бухаре. Там нас не любят: зовут «люли» и бросают в нас камни. Но и без нас плохо: глупые гаджо, ничего сами не могут. У председателя конь захромал — нас зовут, черные крысы придут — мы их уведем, муж разлюбил — травку специальную дадим, кто будущего боится — тому всю правду скажем. Ты про крыс сам должен знать, но вот послушай теперь меня старую. Я тебе про крысоловов расскажу.
Проклято наше племя с тех пор, как сошел на землю Христос. Почему? Сейчас расскажу. Вижу, что торопишься, но послушай старуху, потом, может, и пригодится. Нэ, ашунес[52]:
Когда задумали распять Христа на кресте, то заказали плотникам крест и послали солдат за гвоздями. Как водится, дали им денег, чтобы заплатить: гвозди нужны были большие, чтобы выдержали Иисуса.
Пока туда-сюда — к обеду отправились солдаты к кузнецу, а им приказано было ждать, пока не сделает тот гвозди: они-то нужны были к утру самой Пятницы.
Пошли они себе по городу, да жара-то стоит нестерпимая и деньги, как известно, в карманах спокойно лежать не любят. Вот и решили солдатики завернуть в харчевню, пропустить стаканчик вина. Ну, а там уж, как водится, за стаканчиком еще стаканчик, да еще, так и просадили половину денег. Уж дело к вечеру, а гвоздей, понятное дело, нет.
Но дело солдатское известно: пить пей, да ум не пропивай. Вышли они из харчевни, протрезвели разом да и пошли искать кузнеца. Вскоре нашли одного грека, зашли к нему в кузницу и говорят:
— Послушай сюда! Надо нам четыре больших крепких гвоздя сделать, да поскорее. Завтра будем распинать Иисуса Христа за то, что назвал Себя царем.
Как услышал такие слова грек, тотчас вылил ведро с водой в горн.
— Слыхал я про Иисуса Христа, великий Он мудрец! Я вам в этом черном деле не помощник.
— Подумай, грек, хорошенько! Мы с тобой как с человеком говорим. Не послушаешь нас, попробуешь железа на ужин.
Но не согласился грек.
Разозлились солдаты — время-то поджимает, и проткнули его копьями.
Но и службу исполнять надо.
Обошли они полгорода, как вдруг услышали удары молота.
В одном из дворов работал у наковальни жид. Вошли к нему солдаты и говорят:
— Послушай, жид! Нужно нам четыре крепких гвоздя, чтобы прибить ко кресту одного разбойника.
На этот раз они решили не говорить про Христа.
Жид почесал затылок да и приступил к делу. Отрезал клещами четыре бруска от прута, взял меха, раздул огонь.
Как только сунул он первый брусок в угли, — взвилось пламя выше голов и из него послышался голос грека:
— Не делай, этого, жид, не делай! Этими гвоздями хотят прибить ко кресту Самого Сына Божия!
Услыхал жид эти слова, затрясся всем телом, уронил молот. Говорит он солдатам:
— Уходите, люди! Не буду ковать вам гвозди! Видел я Иисуса, въезжал Он в город верхом на осле, и я кричал Ему «Осанна» вместе со всеми!
Наотрез отказался жид, и его тоже проткнули копьями.
Настал вечер. Совсем стемнело. Солдаты приуныли: как быть? Вернуться в казарму без гвоздей нельзя, без денег — тем более. А кто будет ковать им гвозди ночью?
Побрели они, положив копья на плечи да повесив головы, обратно. Идут, спотыкаются, ругаются. Вдруг вдалеке у дороги заметили они огонек. Пошли солдаты на свет да и увидели, что это светится горящий уголь. Возле кучи на краю канавы сидел цыган. В руках у него были клещи, он держал ими гвоздь, а жена его, как водилось в старину, била молотом по наковальне.
— Пошли вам бог добрый вечер, — сказал кузнец.
— И тебе здорово, цыган. Сделай-ка нам четыре гвоздя — получишь четыре монеты.
А когда цыган от денег отказывался?
Начал он ковать, и уже заточил второй гвоздь, как вдруг вспыхнуло пламя выше голов и оттуда заговорила душа грека:
— Не делай этого, цыган! Твоими гвоздями распнут Христа, Сына Божия!
Ни цыганка, ни солдаты не слышали этих слов, один кузнец слышал. Знал он, Кто такой Иисус Христос, сам видел Его на площади.
«Но Христос далеко, а копья — близко», — подумал цыган и покосился на солдат. Видит: копья-то у них в крови! Испугался цыган. Машет рукой жене — бей молотом дальше!
Заточил цыган и третий гвоздь, как вдруг вспыхнуло пламя не только выше голов, но выше огромного старого дерева, что росло неподалеку, и оттуда завопила душа жида:
— Не делай этого, цыган, не делай! Твоими гвоздями распнут Христа, Сына Божия!
И опять ни цыганка, ни солдаты этих слов не услышали, а слышал их один кузнец-цыган. Испугался пуще прежнего, решил и впрямь бросить ковать. Но глянул снова на солдат, на копьях которых запеклась кровь жида и грека, и подумал: «Далеко Христос, а копья — близко», — и опять махнул жене — бей, мол, дальше!
Так выковал он три гвоздя и отдал их солдатам, а те убрали их в мешок. Наконец и четвертый гвоздь был готов, бросил его цыган на землю рядом с наковальней.
О, Девла[53], велико твое могущество, все ромы[54] у тебя в кулаке! Гвоздь-то не остывал, и, раскаленный, лежал на земле! Чего только не делал цыган: и заливал его водой, и засыпал землей — гвоздь светился в темноте и был горячее пламени!
Смотрели, смотрели солдаты, как мается цыган с последним гвоздем, страшно им стало, а время и вовсе поджимает, рассвет уж скоро, и надо возвращаться им в полк с гвоздями, ибо утром должны распять Иисуса Христа.
— Ладно, цыган, давай-ка нам вместо четвертого тот гвоздь, который ты ковал, когда мы пришли сюда, — вот твои четыре монеты!
Покряхтел цыган: жалко было ему своего гвоздя да и нужен он ему был — повозку чинить, да только когда цыган от денег отказывался? Взял кузнец у солдат монеты, да в ту же ночь собрал жену, детей, покидал мешки в повозку да и сбежал из тех мест. То здесь, то там разбивал он свой шатер, то там, то здесь рыл себе яму под угли. Но никто не знал, почему не может он на одном месте долго работать.
А не мог он работать потому, что всегда, когда ковал гвозди, один из раскаленных гвоздей не остывал, светился как огонь и был горячее пламени. Напрасно засыпал его цыган землей, напрасно лил на него воду. Что оставалось делать цыгану? На возок, да и бежать без оглядки.
Так и бродим мы по всему свету и не можем остановиться — иначе уйдет наша кровь в землю, чтобы остудить пылающие гвозди наших грехов. Таков наш закон.
А кто нарушит его, того племя с лица земли исчезнет, как дым от костра по ветру развеется. Глупые стали молодые ромы, думают, Бога обмануть можно. Понастроили домов каменных, поменяли живого коня на мертвое железо. Думают, если раз в год в поле шатры раскинут, обойдут запрет.
Ай, Девла! Горе таким ромам, нет у них будущего. Кровь испортится у них в жилах, вся в землю уйдет. Проклятую кровь земля притягивает, мир очищает. Все умрут от железа да от лихих болезней.
Цыганка замолчала и заново раскурила потухшую трубку.
Я тоже молчал, держа в руке заветный конверт.
— Слушай еще сюда. Я тогда была молодухой, женой баро из народа мугат. Ой, хорошей женой я была. Одного, двух, трех сыновей родила ему, а девочек мой муж не любил. Были у меня и дочки — как ширазские розы, хороши. Старшую отдали в соседнее племя — сын баро Махмуда посватался за нее. Неделю гуляли. Золотом молодых осыпали, золотом коней свадебных подковали. А младшую… — тут лицо цыганки исказила старая, неумолкающая боль. — Младшая…. ай, чтобы земля выплюнула кости того, кто это сделал! Снасильничал ее сын местного партийного. Нет на него управы. А девчонке четырнадцать было. Взял муж нож, зарезал насильника, смыл кровью позор. А дочку… Дочке тоже смерть полагалась: такой наш обычай. А пока заперла я ее на женской половине, сама плачу, почернела вся. Никто о нашем позоре не знает, и мужа моего не нашли: зарезал он свинью эту в поле, ночью, когда тот на свой виноградник на новых жигулях поехал. Машину отогнал в степь, там день копал с братьями — закопали машину. Менты подумали: парня убили из-за машины. Птицы только и видели, как муж копал яму. А сукин сын этот, видно, отцу ничего не рассказал: думал, и так с рук сойдет.
А куда опозоренную денешь? Неделю думал муж, а потом сказал: «Жена, надо убить Тамилу. Нет ей доли цыганской, а другой и не надо».
Я как стояла, так и упала. Мужа за ноги обнимаю, плачу, сапоги ему целую. «Крепко мое слово, — говорит. — Но ради тебя, матери моих детей и хозяйки в моем доме, вот такое условие ставлю. Если кто за неделю просватается к ней, зная о ее позоре, да заберет ее в дом свой как жену по людскому обычаю, будет она жива. Отдам такому, хоть и переступлю через закон отцов и дедов. Но если ты кому слово скажешь — отрежу тебе язык вот этим ножом, которым еще мой прадед кровь выпускал на волю». Сказал так и ушел. А я осталась на полу лежать.