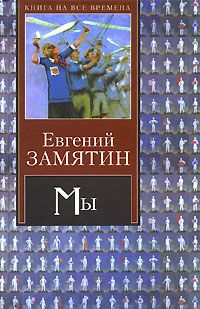Евгений Замятин - Мы
Я чувствую, как от эфира — начинает холодеть вот тут, вокруг ворота, и с трудом спрашиваю:
— Но как же — но этого вы ниоткуда не могли…
У него усмешка — молча — все кривее… И затем:
— А знаете — вы хотели кой-что от меня утаить, вот вы перечислили всех, кого заметили там за Стеной, но одного забыли. Вы говорите — нет? А не помните ли вы, что там мельком, на секунду, — вы видели там… меня? Да, да: меня.
Пауза.
И вдруг — мне молнийно, до головы, бесстыдно ясно: он — он тоже их… И весь я, все мои муки, все то, что я, изнемогая, из последних сил принес сюда, как подвиг — все это только смешно, как древний анекдот об Аврааме и Исааке. Авраам — весь в холодном поту — уже замахнулся ножом над своим сыном — над собою — вдруг сверху голос: «Не стоит! Я пошутил…»
Не отрывая глаз от кривеющей все больше усмешки, я уперся руками о край стола, медленно, медленно вместе с креслом отъехал, потом сразу — себя всего — схватил в охапку — и мимо криков, ступеней, ртов — опрометью.
Не помню, как я очутился внизу, в одной из общественных уборных при станции подземной дороги. Там, наверху, все гибло, рушилась величайшая и разумнейшая во всей истории цивилизация, а здесь — по чьей-то иронии — все оставалось прежним, прекрасным. И подумать: все это — осуждено, все это зарастет травой, обо всем этом — будут только «мифы»…
Я громко застонал. И в тот же момент чувствую — кто-то ласково поглаживает меня по плечу.
Это был мой сосед, занимавший сиденье слева. Лоб — огромная лысая парабола, на лбу желтые неразборчивые строки морщин. И эти строки обо мне.
— Я вас понимаю, вполне понимаю, — сказал он. — Но все-таки успокойтесь: не надо. Все это вернется, неминуемо вернется. Важно только, чтобы все узнали о моем открытии. Я говорю об этом вам первому: я вычислил, что бесконечности нет!
Я дико посмотрел на него.
— Да, да, говорю вам: бесконечности нет. Если мир бесконечен, то средняя плотность материи в нем должна быть равна нулю. А так как она не нуль — это мы знаем, — то, следовательно, Вселенная — конечна, она сферической формы и квадрат вселенского радиуса, у^2 = средней плотности, умноженной на… Вот мне только и надо — подсчитать числовой коэффициент, и тогда… Вы понимаете: все конечно, все просто, все — вычислимо; и тогда мы победим философски, — понимаете? А вы, уважаемый, мешаете мне закончить вычисление, вы — кричите…
Не знаю, чем я больше был потрясен: его открытием или его твердостью в этот апокалипсический час: в руках у него (я увидел это только теперь) была записная книжка и логарифмический циферблат. И я понял: если даже все погибнет, мой долг (перед вами, мои неведомые, любимые) — оставить свои записки в законченном виде.
Я попросил у него бумагу — и здесь я записал эти последние строки…
Я хотел уже поставить точку — так, как древние ставили крест над ямами, куда они сваливали мертвых, но вдруг карандаш затрясся и выпал у меня из пальцев…
— Слушайте, — дергал я соседа. — Да слушайте же, говорю вам! Вы должны — вы должны мне ответить: а там, где кончается ваша конечная Вселенная? Что там — дальше?
Ответить он не успел; сверху — по ступеням — топот —
Запись 40-я
День. Ясно. Барометр 760.
Неужели я, Д-503, написал эти двести двадцать страниц? Неужели я когда-нибудь чувствовал — или воображал, что чувствую это?
Почерк — мой. И дальше — тот же самый почерк, но — к счастью, только почерк. Никакого бреда, никаких нелепых метафор, никаких чувств: только факты. Потому что я здоров, я совершенно, абсолютно здоров. Я улыбаюсь — я не могу не улыбаться: из головы вытащили какую-то занозу, в голове легко, пусто. Точнее: не пусто, но нет ничего постороннего, мешающего улыбаться (улыбка — есть нормальное состояние нормального человека).
Факты — таковы. В тот вечер моего соседа, открывшего конечность Вселенной, и меня, и всех, кто был с нами — взяли в ближайший аудиториум (нумер аудиториума — почему-то знакомый: 112). Здесь мы были привязаны к столам и подвергнуты Великой Операции.
На другой день я, Д-503, явился к Благодетелю и рассказал ему все, что мне было известно о врагах счастья. Почему раньше это могло мне казаться трудным? Непонятно. Единственное объяснение: прежняя моя болезнь (душа).
Вечером в тот же день — за одним столом с Ним, с Благодетелем — я сидел (впервые) в знаменитой Газовой Комнате. Привели ту женщину. В моем присутствии она должна была дать свои показания. Эта женщина упорно молчала и улыбалась. Я заметил, что у ней острые и очень белые зубы и что это красиво.
Затем ее ввели под Колокол. У нее стало очень белое лицо, а так как глаза у нее темные и большие — то это было очень красиво. Когда из-под Колокола стали выкачивать воздух — она откинула голову, полузакрыла глаза, губы стиснуты — это напомнило мне что-то. Она смотрела на меня, крепко вцепившись в ручки кресла, — смотрела, пока глаза совсем не закрылись. Тогда ее вытащили, с помощью электродов быстро привели в себя и снова посадили под Колокол. Так повторялось три раза — и она все-таки не сказала ни слова. Другие, приведенные вместе с этой женщиной, оказались честнее: многие из них стали говорить с первого же раза. Завтра они все взойдут по ступеням Машины Благодетеля.
Откладывать нельзя — потому что в западных кварталах — все еще хаос, рев, трупы, звери и — к сожалению — значительное количество нумеров, изменивших разуму.
Но на поперечном, 40-м проспекте удалось сконструировать временную Стену из высоковольтных волн. И я надеюсь — мы победим. Больше: я уверен — мы победим. Потому что разум должен победить.
1920
Сноски
1
Вероятно, от древнего «Uniforme».
2
Это слово у нас сохранилось только в виде поэтической метафоры: химический состав этого вещества нам неизвестен.
3
Разумеется, речь идет не о «Законе Божьем» древних, а о законе Единого Государства.
4
Конечно, из Ботанического Музея. Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всем, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному за Зеленую Стену. Красиво только разумное и полезное: машины, сапоги, формулы, пища и проч.
5
Должен сознаться, что точное решение этой улыбки я нашел только через много дней, доверху набитых событиями самыми странными и неожиданными.
6
Это давно, еще в III веке после Скрижали.