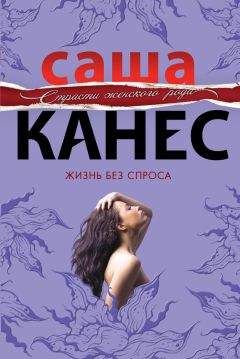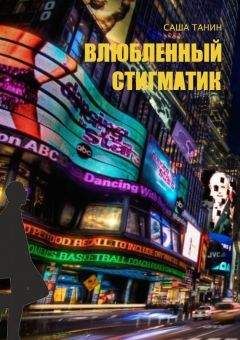Наталья Лебедева - Театр Черепаховой Кошки
Полина снова кивнула.
Историк взял со стула портфель, расстегнул его и вынул оттуда папку с докладом.
— Ну-с, — сказал он, подходя к Полининой парте, и кашлянул, словно не знал, что ему еще сказать. Наклонился. Уловил сладковатый аромат шампуня от ее густых, чисто вымытых волос. Увидел, какая гладкая кожа на ее щеках. И когда он взял Полину за руку, она чуть подалась назад: совсем немного — и это уверило его, что она играет в недотрогу, но на самом деле не хочет, чтобы он ее отпустил.
Полина была удивительно гибкой в его руках, она толкала его, но слабо; она извивалась, отстраняясь, но оставалась возле, она отворачивала лицо, но позволяла целовать себя в шею, в маленькие розовые ушки и в ключицу в разрезе блузы… Он боялся, что, забывшись, Полина начнет кричать, но она молчала: чуть постанывая, закусив губу. Она хорошо знала правила этой игры, доступной теперь не только юным, но и ему: вновь доступной ему игры…
А потом, когда все было кончено, историк зарылся пальцами в ее густые волосы, отвел пряди прочь от лица — и вдруг увидел ее глаза. И остановился. Замер. Обмер.
Он хорошо знал эти глаза. Это были Янины глаза — маленькой Яны, которая болела холециститом и, пока болела, каждую ночь видела, как за ней гонится монстр. Она не могла проснуться до тех пор, пока монстр не хватал ее и не приходило ощущение, что ей уже не вырваться. Она вскакивала с кровати с криком и бежала к родителям. Сон не переставал быть для нее реальностью в тот момент, когда она включала прикроватную лампу, и историк видел ее лицо с точно такими же глазами, где были только ужас и безнадежное отчаяние.
— Прости, — сказал он, отпуская Полину. — Прости. Что же ты не сказала… Я же не думал… Я думал…
Он осторожно взял ее за плечи и поднял на ноги. Оправил, как мог, блузку, опустил задранную юбку, пригладил растрепанные волосы. Поднял с пола Полинину сумку, заправив туда выехавшие наполовину тетради, повесил ей на плечо.
Потом отпер дверь, выглянул в пустую рекреацию и все так же, осторожно, за плечи, вывел Полину в коридор. Запер кабинет и, нервно покашливая, пошел к лестнице на второй этаж, словно ему надо было в учительскую.
Он не слышал ее шагов и очень надеялся, что Полина пойдет-таки домой, а не останется стоять перед дверью запертого кабинета.
4Саша все время думала о Полине, об историке и о теории пазлов.
Теория, в сущности, была неплоха. Одно складывалось к одному в сложной картине, разрезанной по причудливым линиям. И чем больше Саша думала, тем больше ей казалось, что в результате на рисунке не окажется историка и реальной угрозы. Скорее она могла предположить, что комбинация была разыграна, чтобы удалить Сашу из Полининой жизни. Ведь если бы не историк с его блестящими слюной тонкими малиновыми губами, Саша не полезла бы читать Полинины мысли и осталась бы ее близкой подругой.
Школа была почти закончена, на горизонте маячил вуз… Полина все равно бы ушла. Но разлука далась бы ей слишком большой кровью. Так что быстрый разрыв был наилучшим решением.
Да, все так и складывалось — Саша видела это. И слово «закончили», сказанное сегодня историком, было тому подтверждением. Последний раз — и Полина свободна от него и от своих страхов.
И это было хорошо…
Хорошо…
Было бы хорошо, если бы Саше не было от этого так холодно. Родители — Пэммм! Она чувствовала себя как рассохшаяся дешевая гитара, которая держится только на струнах. Полина — Пэммм! Струны рвались одна за одной, и Саша не в силах была это остановить. Слава — Пэммм! И корпус начал разваливаться: покореженная фанера, выдохшийся клей.
Захотелось к маме.
Так захотелось к маме, что Саша просто встала и пошла к ней.
Мамина комната была такой пустой и холодной, что казалось, там никто не живет. Тут не было ни запахов, ни отголосков звуков, ни живого тепла — ничего.
Саша искала мамино присутствие в мелочах — и не находила его.
Ничто казалось агрессивным. Оно стирало не только маму: комната больше не помнила бабушку. В полировке секретера не скользило ее призрачное отражение, и вещи, к которым она когда-то прикасалась, растеряли тепло ее рук.
Саша замерла на пороге, оглядела все, а потом тихонько позвала:
— Баба Ира…
Конечно — разумеется — никто не ответил. Слова растворились в комнате, словно в вакууме. Как будто Саша вышла в безвоздушное пространство. Ни живого присутствия, ни милых домашних призраков…
— Бабуль…
Саша закрыла глаза и представила себе бабушку. Вот она сидит: не на диване и не возле секретера, а на стуле, поставленном на самую середину узкой комнаты. Под ножками стула — зеленая ковровая дорожка с красными полосами по сторонам. Баба Ира сидит, выпрямив спину, расправив плечи, сложив руки на коленях, и улыбается. Она худощавая, в юбке до колен и простых колготках, на голове — косынка, и даже в жару баба Ира носит кофту, застегнутую на все пуговицы. Когда ее зовут, она не откликается — баба Ира глухая.
Ее мысли не получается читать по платкам: в голове у бабушки только мутная, неопределенная темнота. Сумеречные разводы, редкие всполохи обрывочных мыслей.
Бабушка почти всегда улыбается, но, несмотря на густую, почти непрерывную темноту внутри, улыбка у нее хорошая — не блуждающая, как у слабоумных, а легкая и добрая.
За те десять лет, которые бабушка прожила с ними, она пришла в себя единственный раз — или это был тот единственный раз, когда Саша застала темноту в ее голове отступившей. Она очень хорошо помнила этот день: ей было тогда одиннадцать, она пришла из школы и заглянула к бабушке. Та, как обычно, сидела на стуле и смотрела прямо перед собой. Бабушка вообще никогда не доставляла им хлопот: ела, когда кормили, спала, когда укладывали. Утром сама одевалась и садилась на стул.
Саша закрыла дверь, но не прошло и десяти минут, как из бабушкиной комнаты послышался глухой и тяжелый грохот. Саша бросилась туда.
Бабушка лежала на полу, рядом с опрокинутым стулом. Она опиралась на руки, пытаясь встать, но слабые руки дрожали, и та же дрожь немощи и отчаяния стояла в бабушкиных прояснившихся глазах.
Она пыталась говорить, но изо рта ее не доносилось ни звука.
Бабушка была испугана и ошарашена, как человек, который вчера лег спать молодым и сильным, а проснулся немощным и старым. Она словно бы не помнила долгих лет своей болезни.
Саша подбежала, подняла стул и схватила бабушку за руки, чтобы помочь ей подняться. Сначала казалось, что поднять ее невозможно. Бабушка совсем не помогала. Она повисла на Сашиных руках, и вес ее казался вдвое большим, чем был на самом деле. Саша закусила губу, чтобы не расплакаться. Она тянула, пока не кончились силы, потом опустилась рядом с бабушкой на пол. Глаза встретились с глазами, и тут бабушка словно бы узнала ее. Улыбка вернулась на ее лицо, и взгляд стал увереннее и тверже.
Она снова попыталась что-то сказать, снова не смогла.
— Бабушка, все хорошо, — ответила Саша. — Я тебе помогу.
Бабушка увидела движение ее губ и испуганно вздрогнула — осознала, что ничего не слышит.
Саша прижала бабушкину голову к себе, погладила трясущейся рукой. Шелковая косынка скользнула по волосам и упала на пол. Бабушка обхватила Сашу руками, и та почувствовала, как бьется ее сердце.
Странное начало происходить в комнате. С каждым ударом сердца она все больше и больше заполнялась золотистым шелком. Он тек из бабушкиной груди, перемешиваясь с солнечным светом, становясь частью воздуха. Он звенел, как золотое монисто на уличной плясунье. Саша встала на ноги и окунулась в свет и звук. Ей сразу стало очень легко. Она протянула бабушке руку, почти без усилий подняла ее на ноги и бережно усадила на стул.
Бабушка улыбалась: широко и ясно, словно здоровый человек. Золотой шелк плескался вокруг нее, и Саша не смогла удержаться. Она подняла руки и закружилась, позволяя золотым лоскутам обвиваться вокруг ее тела.
Потом золото померкло. Бабушка снова сидела на стуле посреди комнаты, смотрела перед собой, и в голове ее было темно.
И может быть, Саша сама выдумала это, чтобы подбодрить себя тогда? Она не знала. Она сделала шаг вперед и вошла в комнату.
Старого бабушкиного стула тут больше не было: он куда-то делся после ее смерти, чуть меньше двух лет назад. Саша взяла мамин офисный стул и поставила его на нужное место. Она села, закрыла глаза. Представила на себе кофту, застегнутую на восемь маленьких пуговиц, шелковую косынку на волосах, узловатые старческие пальцы, которые теребят плотную шерстяную юбку: собирают в складки, потом разравнивают, разглаживают, и так раз за разом…
Легкий шелк прохладно скользнул по ее лицу. Саша на секунду стала бабушкой, и вдруг увидела мир таким огромным и цветным, и услышала его таким беззвучным, что захватило дух.
Это было ответом. Теперь Саша знала, что бабушка была такой же, как она сама. И если прежде ей казалось невозможным представить человека, который десять лет подряд день за днем сидит на одном и том же месте и неотрывно смотрит на белую закрытую дверь, то теперь она понимала, что там, за темной стеной старческого слабоумия, бабушка жила совсем другой жизнью. Там были шелк и краски, там были какие-то трудные дела, которые надо было сделать… Вот только какие?