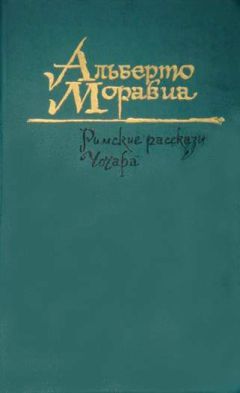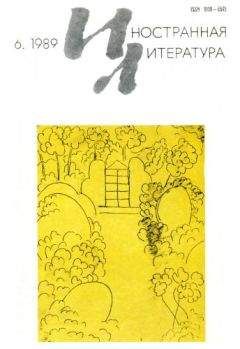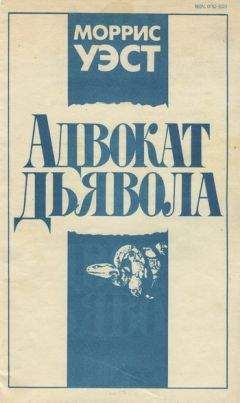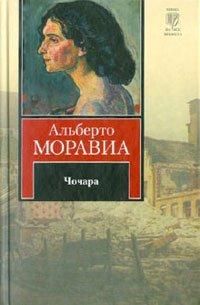Павел Когоут - Палачка
Он посмотрел вниз и, хотя был к этому готов, отшатнулся. Там вокруг спичечного коробка ползали крошечные жучки. Он запрокинул голову и закрыл глаза. Застыв в этом положении — тело удерживали в шатком равновесии лишь мускулы заведенных назад рук, а ноги вот-вот готовы были понести его с крутизны, — он представил себе лицо Лизинки и вновь ощутил под собой почву.
Порыв ветра едва не сбил его с ног. Он открыл глаза и оглянулся назад. Вершина исчезла. Со скоростью цунами на горную гряду надвигался мутный, гудящий смерч. Угадали! — пронеслось у него в мозгу. Времени больше не оставалось. Сейчас начнется снежная буря, и те, внизу, отправятся искать укрытие. Он должен успеть раньше. Любовь или смерть! — вспомнилось Рихарду. И он изо всех сил оттолкнулся.
Всю первую половину спуска он не ощущал ничего, кроме почти свободного падения. Лишь когда со скального карниза он, словно выпущенный из катапульты, почти тридцатиметровым прыжком вылетел из тени на свет, то заметил суматоху возле турбазы, которая сразу же сменилась оцепенением: очевидно, все узнали его ветровку. Нырнув в ложбину, он потерял их из виду. Ему пришлось максимально собраться, чтобы благополучно миновать редкие сосенки и, главное, вовремя оттолкнуться на следующем карнизе. Он испугался, когда прямо на него, как мишень на полигоне, пошел огромный силуэт турбазы, но в этот момент он уже направил концы лыж к земле, классически приземлился так, что взвизгнули полозья, резко затормозил и застыл, а вокруг него медленно оседало облако снежной пыли. Свершилось. Было ясно — он победил.
Хотя мутная лавина нависла уже над самыми соснами и глухой гул возвещал о приближении белого ада, здесь, на сцене живой природы, царила мертвая тишина. На снегу, в комнатах, в окнах столовой перед ним маячили лица, полные ужаса, изумления, радости и восхищения.
Послышался смех. Смех, который он не узнал, потому что никогда раньше его не слышал. Он обернулся.
От сосны, которая вчера так и не дождалась его стихов, с шапочкой в руке бежала вниз раскрасневшаяся Лизинка, за ней гнался Дуйка. Дуйка бросал в нее снежки. Лизинка смеялась.
Это был замечательный, веселый, во всех отношениях удачный Новый год, хотя за окнами разыгралась пурга — такой не помнил даже директор турбазы. Ветром сорвало провода, но на это никто не обращал внимания. Тепло, свечи, музыка и, главное, вино — педагоги решили сегодня закрыть на все глаза — создали всем чудесное настроение. Для полного удовольствия не хватало только Рихарда.
Он исчез, едва появившись. Его искали, но тщетно. Впрочем, поскольку вечер был костюмированным — изображали учащихся старинной школы и подмастерьев старинной пекарни, — все резонно решили, что он давно уже где-то здесь и втайне наслаждается своим триумфом.
В числе прочих и Влк хотел выразить ему свое восхищение. Разумеется, он уже не сердился на мальчика. Физрук ПУЧИЛа твердил, что такой прыжок сделал бы честь любому чемпиону и Рихард, несомненно, украсит знамя училища медалью. Знамя! — осенило Влка. — У нас должно быть свое знамя! Он вспомнил, что мальчик художественно одарен, и решил этим почетным заданием выказать ему свое расположение. Идею плахи с топором он отверг, а вот, скажем, усмехнулся Влк про себя, кровавое поле, крест-накрест пересеченное пеньковой веревкой, при желании вполне можно выдать за рождественский пирог…
Профессор сидел за центральным столом в костюме мельника, который его жена сшила из когда-то купленных, но так и не использованных саванов. Вокруг него кружились мукомолы, поварята, бакалавры и классные наставники всех времен. Он радовался изобретательности своих питомцев; Альберт замаскировал горб под корзину булочника, а Франтишек, тот даже вырядился рогаликом — Бог знает, как он сумел притащить сюда в чемодане эту картонную штуковину. Чаще всего он заглядывался на прелестную булочницу — ее костюм пани Тахеци сшила из своего свадебного платья. Он заметил, что она почти все время танцует с полноватым учеником — повесой из Флоренции, который то и дело поправлял падающую шляпу с пером, фальшивый нос и нелепые очки; впрочем, припоминая, что стихи юноши были пронизаны пылкой любовью к революции и ледяным отвращением к сексу, Влк не слишком беспокоился. Но все равно обрадовался, когда директор наклонился к нему и, пытаясь перекричать веселый гомон, спросил, не знает ли он какого-то Дуйку — его срочно разыскивают. Влк указал на флорентийца и, когда директор увел юношу с импровизированной танцплощадки, поймал себя на том, что было бы неплохо, если булочница пригласит на танец его. Но тут ее перехватил физрук ПУЧИЛа, и Влку пришлось испытать противоречивые чувства: он был доволен, что таким образом сохранил должную дистанцию, и вместе с тем слегка разочарован.
Перед самой полночью выстрелили пробки от шампанского, и в этот момент произошло неожиданное событие, заставившее Влка похолодеть. В веселую суматоху из коридора шагнула высокая фигура в красном капюшоне. Чтобы не было сомнений в том, кого она изображает, она держала в руке колесо. С него капала кровь такого красного цвета, каким может быть только малиновый джем, догадался профессор. Подойдя под аплодисменты к центральному столу, «палач» положил колесо на пустой стул Дуйки. Затем поклонился и исчез.
Влка прошиб холодный пот. Он лихорадочно соображал, кто это был и что хотел этим сказать. Перепился кто-то из ПУПИКа? Что ж, он вытурит его в шею, зато вздохнет с облегчением. А вдруг кто-то из ПУЧИЛа обо всем догадался?.. Тогда — катастрофа. Под общий шум, который поднялся по случаю только что наступившего Нового года, он мигом перебрался на другой конец стола. Прежде чем что-то предпринять, он решил по крайней мере убрать куда-нибудь это дурацкое колесо. Он поднял его и спрятал под стол, запачкав правую руку малиновым джемом. Платок лежал у него в правом кармане, поэтому он облизал пальцы. Кровь.
— Господин профессор, — прохрипел ему в ухо Альберт, — там, внизу!
Казалось, первый ученик для большего эффекта обсыпал себе лицо мукой, так он был бледен. Они не успели произнести больше ни слова — раздался крик, от которого у всех мороз пошел по коже. На пороге столовой стояла с фонариком в руке жена директора, ловила ртом воздух и показывала куда-то себе под ноги. Потом она уронила фонарик.
Влк прибежал в подвал первым, но не успел запереть двери, чтобы преградить дорогу остальным. Впрочем, с первого взгляда стало ясно, что на Божью помощь тут уже рассчитывать не приходится, — помочь смогут разве что высокие покровители, да и то если пожелают.
К андреевскому кресту, сколоченному из лыж, был привязан цепью голый Дуйка. Глазом специалиста Влк моментально определил: прежде чем сломать ему кости "von unten auf" — на «отлично», машинально отметил Влк, — Дуйку подвергли жестокой пытке электричеством. Он сразу же прикрыл труп оранжевой ветровкой, валявшейся поодаль, так что Лизинке и на этот раз не суждено было познакомиться со стихами, которые в ее честь несчастный Рихард выжег на широкой груди и толстом животе Дуйки самой тонкой из своих игл:
Цветок любви в твоей руке — как символ юности моей.
Весь свет завидует теперь, ведь нашей дружбы нет нежней!
Пусть нашей дружбы чистота сияет в самых небесах.
Нас не пугает высота, что отражается в глазах.
Любимая, теперь ты мне на целом свете всех родней.
Любимая, цветок в руке — как символ юности моей.
Рихард Машин.
Автора нашли во время оттепели, во второй половине марта. Он лежал в одной рубашке под первой же сосной справа над турбазой. Его забальзамированное морозом лицо было страшно, угрожающе и исполнено ненависти.
В пятницу 21 марта, вечером, на пороге первой ночи новой весны, в квартире Шимсы зазвонил телефон. Доцент лежал на заправленном по-военному диване одетый и в полном одиночестве. Он следил за игрой теней на потолке, отражавшей его внутреннее беспокойство.
Первого звонка он не слышал, со второго по пятый медленно, поскольку весь организм восставал против этого, выплывал из дремотного состояния; седьмой звонок вызвал у него неудовольствие, восьмой — злость, девятый — ярость, а десятый — буквально физическое отвращение к звуку, в котором материализовались неведомые силы, управлявшие им всю жизнь. После одиннадцатого звонка он поклялся, что отныне не будет слушать никаких советчиков, кроме собственного сердца; он призвал на помощь выдержку и вернулся к размышлениям, от которых его так бесцеремонно оторвали. После девятнадцатого звонка в нем одержал верх его извечный враг, который — и сейчас он впервые это осознал — до сих пор неизменно разбивал в прах и стирал в порошок его другое, свободное «я»; этим врагом была дисциплина. На двадцатом звонке он снял трубку.
— Прием, — сказал он; после стольких лет работы в учреждениях с особым режимом он так и не сумел отучиться от этого выражения.