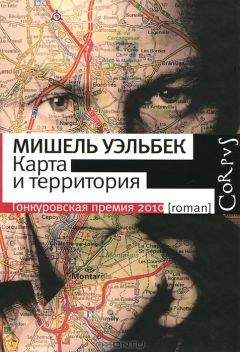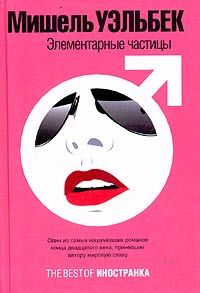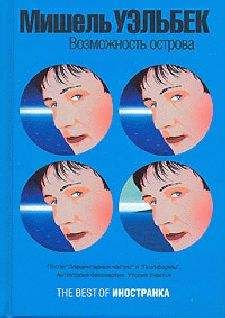Мишель Уэльбек - Покорность
В Париже тоже потеплело, но не так чтобы очень, моросил мелкий холодный дождь; на улице Тольбиак было полно машин, она даже показалась мне длиннее обычного, по-моему, мне еще ни разу не приходилось идти по такой длинной, мрачной, скучной и бесконечной улице. Ничего, кроме разного рода неприятностей в этом городе я не ждал. Однако, к моему изумлению, в почтовом ящике обнаружилось письмо – ну, скажем нечто, что не являлось ни рекламой, ни счетом, ни административным запросом. Я с отвращением оглядел свою гостиную и волей-неволей вынужден был сознаться себе, что мне не доставило ни малейшей радости возвращение домой, в эту квартиру, где никто никого не любит и которую никто не любит. Прежде чем открыть письмо, я налил себе большой стакан кальвадоса.
Писал мне Бастьен Лаку, который, по-видимому, – я тогда пропустил эту новость – несколько лет назад сменил Юга Прадье на посту главного редактора “Библиотеки Плеяды”[18]. В первых строках он сообщал, что по необъяснимому упущению Гюисманс все еще не числится в каталоге авторов “Плеяды”, хотя, несомненно, входит в созвездие классиков французской литературы; тут я не мог с ним не согласиться. Далее он выражал уверенность, что если кому-то и можно поручить издание Гюисманса в “Плеяде”, то только мне, учитывая общепризнанное высочайшее качество моих работ.
От таких предложений не отказываются. То есть отказаться-то я, конечно, мог, но тем самым я бы окончательно поставил крест на каких бы то ни было интеллектуальных и социальных устремлениях, да и всяких устремлениях вообще. Готов ли я к этому, вот в чем вопрос. Чтобы обдумать это, мне необходим был еще один стакан кальвадоса. Подумав, я решил, что не вредно будет выйти за новой бутылкой.
Мне сразу удалось назначить встречу с Бастьеном Лаку на послезавтра. Его офис был точно таким, как я себе представлял, намеренно старомодным, и, чтобы добраться до него, мне пришлось подняться на третий этаж по крутой деревянной лестнице, с которой открывался вид на внутренний двор с запущенным садом. Сам Лаку оказался интеллектуалом весьма распространенного типа, в маленьких овальных очках без оправы, на редкость жовиальным и довольным собой, миром вообще и своим положением в этом мире в частности.
Я успел немного подготовиться к разговору и предложил разделить наследие Гюисманса на два тома, собрав в первом его произведения от “Вазы с пряностями” до “Отставки господина Буграна” (я ввернул, что наиболее вероятная дата его написания – 1888 год) и посвятив второй циклу романов о Дюртале, от “Бездны” до “Облата”, прибавив к ним, естественно, “Толпы Лурда”. Такое простое распределение, логичное и очевидное, не должно было вызывать затруднений. Что касается комментариев, то с этим, как всегда, сложнее. Некоторые псевдонаучные издания дают примечания ко всем упомянутым у Гюисманса бесчисленным писателям, музыкантам и художникам. Мне это представлялось совершенно бессмысленным, даже если отправить все примечания в конец. Они только перегружают том, к тому же как определить, не слишком ли много или не слишком ли мало сказано о Лактанции, святой Анджеле из Фолиньо или Грюневальде; кому интересно, может навести справки самостоятельно, вот и все. Что же касается отношений Гюисманса с писателями-современниками – Золя, Мопассаном, Барбе д’Оревильи, Реми де Гурмоном или Леоном Блуа, – то об этом, на мой взгляд, следует рассказать в предисловии. И в данном вопросе тоже Лаку немедленно со мной согласился.
Зато непонятные слова и неологизмы, использованные Гюисмансом, как раз предполагают наличие справочного аппарата – но я, пожалуй, предпочел бы постраничные сноски, чтобы не слишком замедлять процесс чтения. Он восторженно закивал в ответ.
– В вашем “Головокружении от неологизмов” вы уже провели огромную работу в этом направлении! – воскликнул он радостно.
Протестующе подняв правую руку, я заверил его, что, напротив, в книге, которую он так любезно упомянул, я лишь вскользь затронул этот вопрос, разобрав всего-навсего четвертую часть текстового корпуса писателя. Он, в свою очередь, примиряюще поднял левую руку: само собой, у него и в мыслях не было недооценивать тот колоссальный труд, которого потребует от меня подготовка нового издания; впрочем, сроки сдачи пока не определены, так что в этом плане я могу себя чувствовать абсолютно свободно.
– Да, вы работаете для вечности…
– Конечно, это звучит очень претенциозно, но при всем при том нельзя не признать, что наши устремления, во всяком случае, именно таковы.
После этого заявления, сделанного с точно отмеренной долей елейности, наступила небольшая пауза; все шло, по-моему, хорошо, мы сливались в экстазе на почве общих ценностей, и наша “Плеяда” обещала быть в шоколаде.
– Робер Редигер крайне сожалеет о вашем увольнении из Сорбонны после… смены режима, если так можно выразиться, – продолжал он уже более печальным тоном. – Я это знаю, потому что мы с ним друзья. Близкие друзья, – добавил он с каким-то даже вызовом. – Некоторые преподаватели, весьма заслуженные кстати, остались. Другие, столь же заслуженные, ушли. Каждое из этих увольнений, ваше в том числе, стало для него глубоко личной драмой, – заключил он резко, как если бы вдруг долг дружбы и учтивость вступили в его душе в трудную борьбу.
Мне совершенно нечего было ему на это ответить, и он в конце концов это понял, промолчав почти минуту.
– В общем, я счастлив, что вы согласились участвовать в моем проектике! – воскликнул он, потирая руки, как будто мы с ним сейчас мило подшутили над ученым миром. – Понимаете ли, мне казалось совершенно ненормальным и достойным сожаления, что такой человек, как вы… человек вашего уровня, я хочу сказать, вдруг очутился за бортом – ни лекций, ни публикаций, ничего! – С этими словами, осознав, похоже, излишнюю драматичность своих интонаций, он медленно поднялся со стула; я тоже встал, но попроворнее.
Видимо, в честь заключенного между нами пакта Лаку проводил меня не только до двери кабинета, но даже спустился с третьего этажа вниз (“осторожно, ступеньки тут крутоваты!”), потом проследовал за мной по коридорам (“Прямо настоящий лабиринт”, – хмыкнул он); ну, не сказал бы, там было всего два коридора, пересекавшихся под прямым углом, так что мы сразу попали в нижний холл и он довел меня до выхода из издательства “Галлимар” на улицу Гастона Галлимара. Воздух стал холоднее и суше, и тут я понял, что мы даже не коснулись вопроса о вознаграждении. Словно прочитав мои мысли, он протянул руку к моему плечу, не дотрагиваясь до него при этом, и шепнул:
– В ближайшие же дни я пошлю вам предложения по контракту. – И добавил, не переводя дыхания: – А в эту субботу состоится приемчик в честь открытия Сорбонны. Я прослежу, чтобы вам отправили приглашение по почте. Вот увидите, Робер будет счастлив, если вы сможете выкроить время.
На сей раз он таки похлопал меня по плечу, а затем пожал руку. Последние фразы он произнес приподнятым тоном, словно эта мысль чисто случайно пришла ему в голову, но у меня создалось впечатление, что именно ради этих последних фраз и было сказано все предыдущее.
Прием начинался в шесть часов вечера, на последнем этаже Института Арабского мира, закрытого по такому случаю для посторонних. Я немного волновался, показывая на входе свое приглашение: кого, интересно, я тут увижу? Наверняка саудовцев, поскольку в приглашении сообщалось о присутствии саудовского принца, чье имя было мне хорошо известно, он был основным инвестором обновленного университета. Возможно, и своих бывших коллег, точнее тех, кто согласился работать в новой структуре, – но, за исключением Стива, я таких не знал, а Стив был последним человеком, с которым мне бы хотелось сейчас повстречаться.
Все-таки одного из бывших коллег я заметил, стоило мне пройтись по большому, освещенному люстрами залу, – ну, я его плохо знал лично, мы говорили с ним раза два, не больше, но Бертран де Жиньяк был всемирно известным специалистом по средневековой литературе, регулярно читал лекции в Колумбийском университете и в Йеле, а также являлся автором основополагающей монографии про “Песнь о Роланде”. Что касается кадровой политики нового университета, то он, пожалуй, был единственным козырем в колоде Редигера. Но я толком не знал, о чем с ним говорить, область средневековой литературы была покрыта для меня мраком неизвестности; поэтому я послушно взял несколько мезе – они оказались восхитительны, как холодные, так и горячие, да и поданное к ним ливанское красное вино тоже было выше всяких похвал.
При этом я бы не сказал, что прием так уж удался. Гости, сбившись в группки от трех до шести человек – арабы и французы вперемешку, – ходили по богато украшенному залу, изредка обмениваясь репликами. Лившаяся из динамиков арабо-андалузская музыка, назойливая и зловещая, не слишком способствовала улучшению атмосферы, но проблема была не в этом, и только прослонявшись в толпе три четверти часа, съев с десяток мезе и выпив четыре бокала красного вина, я сообразил, что тут не так: вокруг были одни мужчины. Женщин не пригласили, а поддерживать на пристойном уровне непринужденное общение в отсутствие женщин – тем более без подспорья в виде футбола, неуместного все же в этом как-никак университетском контексте, – было сложной задачей.