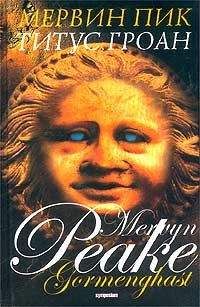Алексей Мороз - От легенды до легенды (сборник)
О, эти глаза нельзя было не узнать! Знала она уже каждый их взгляд, каждый оттенок. Когда они злились, то становились совсем темными, почти черными, острыми, как клинки, и холодными, подобно снеговым вершинам здешних гор. Когда же было им хорошо, делались они карими и мягкими, будто бархатными, гладили ее, ласкали и никогда не отпускали. Боль сочилась из них раскаленным железом, радость — миррой и елеем. Она уже простилась с этими глазами навеки, — нет их более, кровью все поистекли, — а тут они снова явились к ней, будто спрашивая: «Что же ты? Так и не примешь дар? Не захочешь дать нам жизни?» Протянул старец младенца Симонис, взяла та его в руки дрожащие, ибо боялась она уронить дар, посмотрела на него — и лишилась чувств.
Как вышла молодая королева из небытия, сказалась она больной и покоев своих не покидала, разве что в сад выходила порой. Но только ей ведомо было, в чем истинная причина хворей ее. А спустя четыре месяца стали шептаться сперва во дворце, а потом и в народе, что понесла королева, хотя впору ей самой еще в игрушки играться.
Долгой была та зима, холодной да снежной. Глядела Симонис на засыпанные снегом горы за окном, куталась в меха и грустила. Не могла она, выросшая в теплой Греции, никак привыкнуть к зимам здешним. И дня не проходило, чтобы, вглядываясь в белую пелену, не думала она о тех двоих, дорогих ей. Один лежал, закованный в цепи, ослепленный, на хладных камнях, жизнь едва теплилась в нем. Другой скакал навстречу буре, в тяжких доспехах, под чужими стрелами и копьями, и скрещивал меч свой с мечом врага, а снег заметал следы коня его. И не ведала молодая королева, кто из них отец ребенка, носимого ею во чреве. А в народе говорили уже: вместе господарь с сыном своим возделывали поле, вместе пахали, вместе сеяли, и вот пришло время жатвы — как делить им урожай? Отписали про то царедворцы господарю, что при войске своем находился, но ответа от него не было.
Со страхом смотрела Симонис на то, как рос живот ее, но вспоминала старца ночного, и покидала ее тревога. Не доставлял ей ребенок никаких мучений, коими пугали ее другие женщины. Боялась она только, что живот вон как велик и тяжел и еще больше будет — а она росту малого, тонка и слаба, как выйти ему из чрева? Боялась она родов предстоящих, потому и отписала послание матери своей с просьбой о помощи — во всем большом королевстве Сербском не с кем ей было и словом перемолвиться, не то что совета спросить. И забеспокоилась базилисса, упросила отца отправить к дочери лучшего лекаря ромейского, какой только был, ибо известно ей было, что умерли родами уже две жены Милутиновы.
К концу зимы, когда близились сроки разрешиться от бремени, пришли наконец в Призрен добрые вести. Большие сражения случились вдали от столицы, и не нашлось пока еще тех воинов, что смогли бы одолеть в бою короля сербского. Сильна была покамест рука его и тверд дух. Говорят, ангелы помогали ему на поле брани. Или так зол был господарь на врагов своих, что сам черт был на его стороне? Кто знает? Но одолел он всех, кого хотел.
Стал господарь сербский совсем суров — а и прежде не был мягок. Ударил он попервоначалу болгарам в подбрюшье мягкое, и показались им после сего даже деяния татар шалостями отроков из хора церковного. В спешке отошло войско болгарское из разоряемой Сербии и приняло бой открытый. Но не Смилечу тягаться было с Милутином, пусть и войска у того меньше было. А и бывал еще король сербский вероломен — с теми, кого считал достойными обращения такого. В сражении ударил в спину царю болгарскому родич его, владетельный князь Шишман, и не за просто так ударил — обещал ему Милутин болгарский престол в случае победы и сдержал слово свое. Когда же сшиблись два войска, своей рукой господарь убил царя болгарского в честной схватке — вышиб из седла буздованом[43], да так удачно, что тот как упал под копыта, так сразу и преставился. Узрев, что есть в Сербии господарь, разбегаться стали болгары, пощады запросили. Вспомнили, что недавно скрепили они с Милутином договор о дружбе вечной — и как прежде-то позабыли? Хорошенько потрепал Милутин болгар, как лиса в курятнике похозяйничал в пределах их, взял золота прилично да земель немало отхватил.
С воинством Драгутиновым да с венграми тоже драться пришлось. Хороши были стрелки у короля венгерского — лучше не найти. Мелкую птицу били влет со ста шагов. Но не токмо на них оттачивали они мастерство свое, а и на распятиях, стреляя по ним издалека, ибо было среди них поверье, будто попавшему в распятие бесовская меткость дается врагом рода человечьего. Знали про то попы латинские, да только делали вид, что не знают. И летали стрелы да болты тучей над полем брани. Целились стрелки венгерские в высокого черного всадника, что несся сквозь сечу, многим потребна была смерть его, щедро она награждалась. Но ни одна стрела не причинила вреда королю-схизматику — коня убивало под ним, было дело, клевали болты кольчугу господареву, ломались об нее, иные даже и дорожку находили в сочленениях да впивались в тело, но глубоких ран не нанесли они королю. Оставался он по-прежнему в седле, а про раны знали только ближние юнаки да молчали про то. «Припази се ти, господару»[44], — говорили ему воеводы, подводя другого коня. «До ђавола!»[45] — был на то ответ, и гнал опять на поле коня своего Милутин.
Узрев, что есть в Сербии господарь, не делся никуда супротив ожиданий, разбегаться стали венгры, пощады запросили. Вспомнили, что недавно заключили они с Милутином договор о дружбе вечной — и как прежде-то позабыли? И многие из воинов, что не побежали сразу, пали потом в сражении. Разил их король сербский мечом своим без счета, ибо был гнев его безграничен. Драгутина же, родного брата своего, поразил господарь сербский кинжалом — не любил перекладывать он грех на других, на себя брал всегда. А прежде заставил короля Сремского подписать отречение от притязаний своих на престол сербский — и за себя, и за потомство свое. Об одном только просил господаря брат его — не за себя, за сына своего Владислава. Просил он не убивать того и не калечить, хотя не имел на то права, ибо Стефану не было пощады во время оно от дяди его. И обещал ему Милутин исполнить просьбу его. Разменялись короли сыновьями.
Так снова свершилось проклятие Неманичей. Брат поднял руку на брата, за что братом и был умерщвлен. Владислав, Драгутинов сын, собрался было бежать от гнева Милутинова к венграм под крылышко, да изловили его юнаки и хотели было убить. Однако ж пощадил господарь племянника своего, не тронул — обещание ли свое исполнял, проклятия ли убоялся? Заточили Владислава в дальнем замке — туда ему и дорога. У венгров же отобраны были все земли их до Дуная, что называли ромеи Стримоном, а крепость невеликая под названием Београд стала заставой пограничной. Венгерский же король с остатками войска своего ушел в Венгрию, цел и невредим, но так велик был урон, нанесенный ему сербами, что очень скоро скончался венгерский король в муках душевных, а с ним пресекся и род Арпадов.
Тохта-хан же, видя, что легкой поживы из королевства Сербского на сей раз не выйдет, отогнал орду свою на восток и предпочел побыстрее заключить мир с королем Милутином. Злобу же свою обрушил он на ромеев, ибо не могла орда уйти просто так, ни с чем, не пограбив и не поубивав вдоволь.
В разгар дел венгерских, когда войско уже двигалось к Дунаю, а господарь был в седле, принесли ему письмо из Призрена. Сорвал он печать, даже не сняв перчаток, да прочел. Потемнели и так темные глаза его. Затрубили рога. Возвращался господарь в столицу свою, воинству же его надлежало довершить начатое, выдворить всех инородцев за новые пределы королевства, попутно наказав каждого сотого из них и отобрав все, что не было еще отобрано. Войско же венгерское повелел господарь преследовать, но не зверствовать при том, а отставших и раненых, ежели они не вредили, брать в плен. Только стрелков в плен не брали сербы — по наказу господареву.
Муками адовыми стали роды для дочери базилевсовой. Боль эту нельзя было описать словами ни на одном из известных ей языков. Но вот, рожала она уже день, второй, третий начался, совсем измучилась, ослабла так, что не могла голову поднять, схватки то начинались с нечеловеческой силою, то прекращались, воды уже отошли — а ребенка все не было. Кричала Симонис так, что, казалось, на том конце Призрена слышно, губы в кровь разодрала — но никто не мог помочь ей. Бурой стала перина под ней от крови. То был ее путь, и некому было пройти его вместо нее. Терпи, королева.
Сновали вокруг повитухи с полотенцами окровавленными. Сквозь боль и мрак доносились до Симонис голоса их: «Она не родит… Недолго уж ей осталось, бедняжке, скоро отмучается… Кровь, много крови… Ребенок слишком большой, не выйдет сам… Бледная какая, ни кровинки в лице… Да она ж сама ребенок, чего вы хотите… Вот уже третий день… И угораздило же господаря взять в жены эту дохлую гречанку, своих, что ли, мало… Добрая баба родила бы ему десятерых сыновей, а эта помрет… С такими бедрами надо было сразу в монастырь идти… Пора, надо кончать, потом уж поздно будет… Кого оставлять — мать или дитя… Где господарь… Пускай он решает».