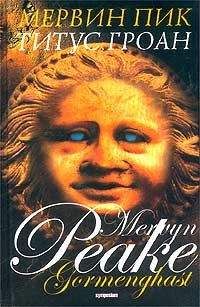Алексей Мороз - От легенды до легенды (сборник)
Выхватил господарь кинжал из-за пояса — острый кинжал, с золотой рукоятью, гранатами усыпанной. Вскрикнула Симонис, ибо открылось ей, что сейчас свершится. Наказал король юнакам поднять сына его да крепко держать, а сам потянул ему голову назад, за волосы схватившись. Встретились взглядами отец и сын, будто скрестили клинки.
— Должен я убить тебя по законам страны этой за измену.
— Так убивай, ползать на коленях пред тобой не буду.
— Но я не сделаю этого. Не будет смерть сына моего на мне.
— Отчего же? Давай! Все равно не отец ты мне боле! Не порешишь меня сейчас — убью тебя потом!
— Ах, тако значи?! Незахвално штене! Ево ти, шта си тражио![37]
Ужасен был господарь в гневе. Зажатый в руке, блеснул кинжал. Рванулась Симонис, схватила за руку мужа своего, как научала невесток своих королева Елена, но отшвырнул ее господарь. Не так-то просто было заставить его свернуть с пути. Ежели что решал, так оно и было. Нашло острие кинжала цель свою, вошло в плоть живую и сделало ее мертвой. Вырезал господарь глаза сыну своему и бросил их на пол. Ослепил господарь своего сына.
И таков был ужас от деяния сего, что сознание милосердно оставило Симонис. Слыхала она только, будто сквозь сон, как страшно кричал Стефан: «Ви сте сви слепи! Слепи сте!»[38] — а потом упал, заливая кровью все вокруг, и вместо глаз у него зияла пустота. Рыдал над ним отец его: «Шта учиних ја? Ја их убих обоје!»[39] А с рук его стекало… нет, не вино стекало, кровь сына его. Хотел господарь наложить на себя руки, да юнаки вырвали у него кинжал окровавленный. Еще вчера ясно сияло солнце, а ныне погрузилось все во мрак непроглядный.
Так вновь страшное проклятие пало на головы Неманичей. Собрался было сын поднять руку на отца — а отец в ответ все равно что убил сына. Бес попутал обоих, гнев ослепил. Погрузилось королевство Сербское во тьму, налетели на него стервятники со всех сторон, прослышали, трупоеды подлые, о поживе знатной.
С севера идет на Призрен немалое воинство. Во главе его Драгутин, несут его на носилках, а подле едет сын его Владислав, мнящий себя уже хозяином престола сербского — даром что пировали недавно в чертогах королевских с Милутином и клялись ему в дружбе вечной. Сбежал Владислав из войска Милутинова, что стояло в Болгарии, пользуясь отлучкой господаревой. Радовался Драгутин, что удалось ему так лихо рассорить господаря с сыном и что, ослепив его, лишился Милутин наследника, и все, что сделал он за эти годы, прахом пропадет, ибо рано или поздно умрет господарь (а ежели не захочет, так можно и помочь ему в том), а на престол взойдет ветвь Драгутинова. А еще рад он был, что удалось ему сие без особых потерь для себя. Всего-то приплатил людям Стефана за то, чтоб донесли они до Милутина правду истинную, не придуманную, с кем это сын его время свое так весело проводит.
И венгры с ними идут, под началом воевод венгерских. И не просто так идут, а попов латинских при них во множестве. Хотят они, знамо дело, утвердить веру свою в землях сербских. Давно, давно уж венгерский король заключил тайный сговор с папой супротив Милутина, как прозвали они его, «короля-схизматика»[40]. И примкнули к ним открыто бан хорватский Младен и герцог Филипп Торрентский, коего папа хотел посадить на престол базилевсов в Константинополе, свергнув оттуда законного владыку ромеев, а такоже иные правители земель окрестных. Старой была вражда папы и сербского короля-схизматика, глубоки были их чувства друг к другу. Каждый год подсылали из Рима к Милутину отравителей, а и тот отвечал взаимностью: с боем взял у правителей латинских все Приморье с главным его городом — Рагузой[41], да и мало того что взял, а и сумел сделать иудеям тамошним, что весь торг держали, такие предложения, от коих не смогли те отказаться. Потекло золото в казну сербскую, довольны были и иудеи, один папа с носом остался. Тут и не так озлиться можно! Нынче же повод припомнить все и представился. Несдобровать на сей раз королю-схизматику.
И с востока идет на Призрен большое воинство. Во главе его Смилеч, царь болгарский, надумавший оторвать себе кусок державы сербской, который Драгутин с венграми не проглотят, — даром что недавно пировал в чертогах королевских с Милутином и клялся ему в дружбе вечной. А и болгары с ним идут, под началом воевод болгарских. Обратил царь на пользу себе то, что войско сербское в Болгарии стоит, без предводителя своего.
А и с юга идет на Призрен тоже воинство немалое. Во главе орды Тохта-хан выступает, наследник Ногая. Этот хоть не пировал с Милутином и не клялся ему ни в чем, — враг обычный, каких тьмы, да и дело у него до сербского господаря обычное, кровное. Татары с ним идут, под началом воевод татарских.
Гроза страшная движется на Сербию. Учиняют все три воинства разорение землям сербским. Кинулись юнаки да бояре во все стороны, а что делать — не ведают. Все воеводы сербские с войском, в Болгарии пребывают. Королева-мать лежит — немочь в ней старческая, того и гляди помрет. Молодая королева тоже лежит, в беспамятстве бредит, жар ее сковал. Королевич, опора и надежа господарства, в темнице, в цепи закован, как бунтовщик, и сочится кровь из глазниц его пустых на плиты каменные. Да и какая польза от слепого на поле брани? А сам господарь затворился в монастыре Михаила Архангела, что недалече от города, сидит на хлебе и воде, никуда из кельи не выходит, грехи замаливает, к постригу готовится, да не просто к постригу, а к схиме. Только было к нему юнаки сунулись — выгнал он их взашей, да так выгнал, что обратно не воротишься. Кричал им вослед грозно: «Ако још неког спазим, сам ћу га обесити!»[42] Не привыкли юнаки к ослушанию, так и вернулись ни с чем из обители. А беда меж тем все ближе.
И тогда встала королева Елена с одра своего, оперлась на посох и пошла к сыну, в монастырь Михаила Архангела. Неблизок путь туда, тяжко ей идти. Пытались остановить ее царедворцы, хотели взять на носилки — но отмахнулась она от них. Весь день шла королева, до самого вечера, дабы видеть сына. Вошла к нему в келью и вопросила строго:
— Что это ты надумал, сын мой? Королевство свое оставил воронью на пир?
— Не могу я так больше. Мочи нет. Брат спит и видит, как убить меня. Жена, которую любил я больше жизни, изменила и опозорила. Сын родной руку на меня поднял. Душа болит. Убил я его, почитай. Нет мне прощения, и жить мне незачем более.
Но ответствовала старая королева:
— Ты — великий господарь, сын мой, не девица какая, не тебе плакаться о бедствиях, кои не новы под луной. Встань же, защити свой народ. А судит всех потом пусть сам Господь. За сына и жену может Он простить — за народ никогда!
И в тот миг, когда не действуют приказы, когда слова не значат ничего, когда молчат небо и земля, затаив дыхание, потребно кому-то выйти один на один со злом — древним, как сам род человеческий. В тот миг и решится все. Так было во все века, так случилось и ныне. И такая сила была в словах матери, что встал Милутин, вышел из кельи своей да выехал навстречу врагам. Только холодная сталь могла решить спор Неманичей. А кому, как не господарю, брать удар на себя? Королева же старая вскорости слегла и преставилась, слишком дорого далась ей дорога в обитель. Но главное дело свое сделала она.
Обо всем этом узнала Симонис после, когда в себя пришла. А тогда лежала она, разметавшись в бреду, и бормотала что-то по-ромейски — не могли служанки разобрать что. Про какие-то проклятия говорила. И уже судачили в народе, что через порченую дочь базилевсову проник нечистый в семью королевскую да натворил там делов столько, что за сотню лет не разгребешь.
Как-то в ночь очнулась Симонис от бреда своего и узрела, что подле ложа ее стоит старец — тот самый, что уж являлся к ней однажды, после того как ходила она к гадалке. Пожив с людьми, не боялась она боле призраков. Хоть и не рассмотрела она его тогда, а узнала сразу, даже в слабом мерцании светилен. И почудилось ей в нем что-то знакомое, уже виденное много раз, но что — не могла она припомнить. Сверток держал в руках ночной пришелец.
— Вот, принес я то, что нужно тебе, — промолвил он.
— Разве заслужила я дары? — спросила она, и слаб был голос ее. — Я, навлекшая проклятие на головы тех, кого люблю.
— Каждому даю я то, что жаждет он.
— А ежели недостойны люди даров твоих?
— У недостойных я заберу их потом, — был ответ.
Священный трепет овладел дочерью базилевса. Хотела она было отказаться от дара, но шагнул уж к ней старец да раскрыл сверток свой. И увидала Симонис — лежал на белом полотне младенец, мальчик, совсем еще крохотный, шевелил ручками и ножками, улыбался и тут вдруг повернул головку и глянул на нее…
О, эти глаза нельзя было не узнать! Знала она уже каждый их взгляд, каждый оттенок. Когда они злились, то становились совсем темными, почти черными, острыми, как клинки, и холодными, подобно снеговым вершинам здешних гор. Когда же было им хорошо, делались они карими и мягкими, будто бархатными, гладили ее, ласкали и никогда не отпускали. Боль сочилась из них раскаленным железом, радость — миррой и елеем. Она уже простилась с этими глазами навеки, — нет их более, кровью все поистекли, — а тут они снова явились к ней, будто спрашивая: «Что же ты? Так и не примешь дар? Не захочешь дать нам жизни?» Протянул старец младенца Симонис, взяла та его в руки дрожащие, ибо боялась она уронить дар, посмотрела на него — и лишилась чувств.