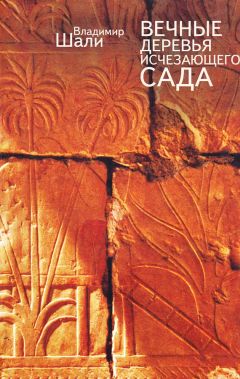Хольм Ван Зайчик - Дело Судьи Ди
Да, но если бы время от времени хоть кого-нибудь не носили в паланкинах – эти поразительно красивые паланкины остались бы только в древнехранилищах, а ведь вещь по-настоящему дает ощутить себя и производит впечатление, лишь когда ею пользуются по назначению! Да и невозможно представить себе в просторах Запретного города, скажем, велосипед… это вопиюще несообразно и даже несколько оскорбительно – как если бы, скажем, Христос вдруг запел, взявши в руки новомодный музыкальный инструмент из шумных, электрических; или князь Лу, прося у Конфуция совета об управлении, обратился бы к нему: “Слышь, братан…”
В повозке, стремительно и ровно летящей по широкому, просторному скоростному тракту от воздухолетного вокзала в город, в плотном рое помаргивающих габаритными огнями собратьев, члены семьи некоторое время молчали. Мальчик Хаким, почти утратив свою тщательную взрослость, прилип, как и подобает ребенку, к окну; даже бек позволял себе время от времени крутить головой. Фирузе прижималась плечом к плечу Богдана. Приближался выезд на четвертую кольцевую дорогу.
– Лепота, – с нескрываемым восхищением подал наконец голос ургенчский бек, до глубины души, видимо, потрясенный грандиозными пространствами и красотами расцветившегося огнями, сполохами и заревами великого Ханбалыка.
Желтолицый водитель в строгом черном костюме и белых перчатках – Богдан видел часть его лица в зеркальце заднего вида – лишь улыбнулся молча, но не без удовольствия. Ему было приятно. Бек, судя по всему, тоже это заметил или понял – в поразительном знании людей ему никак нельзя было отказать, – потому что чуть наклонился с заднего сиденья к стриженому затылку водителя и, подняв коричневый жилистый палец, в обычной своей назидательной манере сообщил:
– Фэйчан хаокань!<Фэйчан хаокакь – очень красиво (кит.) >
Тут уж водитель совсем расцвел – сверкнули его безукоризненные зубы – не легким ханьским акцентом ответил, не отрывая глаз от дороги и несколько раз кивнув:
– Спасибо, спасибо. Я тозе так думай.
Одна мысль не давала Богдану покоя. Беспокоила, зудела под черепом, как оса. Минфа и так и сяк боролся с искушением, давая близким людям полюбоваться проездом без помех, – но, когда до гостиницы оставалось не более десяти минут, не выдержал.
– Послушай, ата, – сказал он негромко. Бек чуть склонил голову в его сторону, прислушиваясь. – Ты мудр, как улем, и знаешь жизнь, как эмир. У меня есть к тебе вопрос, который тебе может показаться поначалу странным.
– Спрашивай, дорогой, – так же вполголоса ответил Кормибарсов.
– Какая вещь, очень ценная вещь, и, возможно, особенно – для мусульман ценная… может называться словом, похожим на слово “кирха”?
Бек несколько мгновений молчал; ничего не отразилось на его твердом лице. Потом он переспросил:
– Кирха? Но это же церковь так называется у…
– Да-да! – До “Шоуду” оставалось совсем Немного, и Богдан перебил старика почти нетерпеливо. – На самом деле не кирха, конечно. Что мусульманам кирха. Но что-то может быть похоже по звучанию?
Бек опять помолчал. Потом переспросил снова:
– Вещь?
– Да. Наверное, даже не очень большая. Ее может нести один человек. Я потом объясню тебе…
– Погоди, – сказал бек. Потом он немного с трудом, по-стариковски всем корпусом повернулся к Богдану. – Погоди. – В глазах его вспыхнул покамест еще не понятный Богдану внезапный пламень. – Где ты это мог?..
– Потом, ата, потом!
Бек снова помедлил.
– Хирка, – сказал он, и голос его дрогнул. – Может быть, так, сынок? Хирка?
Богдан обмер.
– Что это такое? – спросил он, изо всех сил стараясь, чтобы голос его звучал спокойно.
– Это легендарный плащ Пророка, – с благоговением проговорил бек. – Плащаница…
– Что такое плащ Пророка?
Кормибарсов отвернулся и снова стал смотреть вперед.
– Ее сотворили нерукотворно, без швов и шитья… – тоже явственно борясь с волнением, неторопливо, даже как-то распевно начал он. – Говорили, что она из шерсти барана, которого принес в жертву Ибрагим… по-вашему, по-русски, – Авраам. Но говорили также, что она из шерсти верблюда… Днем Пророк носил хирку как плащ, ночью укрывался как одеялом. Говорили, что каждый видел ее разного цвета. Перед смертью Мухаммад завещал ее Увайсу ал-Карани, одному из первых суфиев. Потом она хранилась в сокровищнице багдадских халифов как знак преемства их власти прямо от Пророка. Когда монголы штурмовали Багдад, хирку спасли и вывезли сначала в Египет, а когда и над ним нависла опасность завоевания – еще дальше, куда-то в Магриб… где Алжир теперь<В нашем мире судьба плащаницы Пророка (хиркейе мубарах – благословенный покров) сложилась несколько иначе. Эта священная реликвия действительно хранилась в сокровищнице халифов и загадочным образом исчезла оттуда во время осады Багдада монгольским воинством. Затем она несколько раз появлялась (подлинник или копии – кто знает?) в Оттоманской империи и служила султанам столь же великим символом и источником их могущества. Последняя из известных хирок была не так давно поднесена известному мулле Омару, главе афганских талибов, и послужила оправданием его претензий на восстановление мирового халифата. >. Была она на самом деле в Алжире, не была – точно теперь никто не скажет, но говорят, что была. И только после того, как французы победили храброго Абд-эль-Кадера и завоевали Алжир, ее следы окончательно потерялись… Но некоторые из нас до сих пор верят, что кто-то из французских генералов нашел хирку и тайком присвоил как трофей – может, Бюжо, может, Ламориссьер… мало ли их было… Во всяком случае, когда Франция предоставила Алжиру равноправие, кое-кто ждал, что хирка обнаружится и будет возвращена, алжирские вожди даже включили пункт о ней в текст договора – но французское правительство заявило, что ничего о плащанице не знает. Может, и так… Однако ж, помнится, один потерявший голову молодой шахид от разочарования даже протаранил Эйфелеву башню своим воздухолетом – так верил, что хирка теперь-то уж будет отдана…
– Так, – сказал Богдан. Мысли у него совсем разбежались. – Так. Чем она ценна? Предание, реликвия, я понимаю… Но – кроме? Чем она может заинтересовать сейчас? Там драгоценные камни, золотое шитье… или что?
Бек тяжело вздохнул.
– Послушай, русский, – сказал он терпеливо, но так, будто обращался к внуку Хакиму. Или даже к кому-то еще более несмышленому; Хаким был все ж таки старшим внуком по главной жене. – При чем тут камни? Того, кто наденет хирку, вся умма признает Амир-уль-Моминином, Вождем Правоверных, и Халифом Расул-Алла – наместником Пророка, которого ведет сам Аллах
Повозка уже подъезжала к стоянке перед гостиницей.
– Так, – сказал Богдан. – Вся умма. И мусульмане из отдельных, исламских стран, и ордусские мусульмане, и французские, и великобританские, и американские…
– Нет мусульман ордусских или французских, – отрезал бек. – Есть мусульмане – подданные Ордуси, есть мусульмане – подданные Франции… и так далее. Но все они мусульмане, пойми. У нас тоже хватает внутри всякого… одни талибы чего стоили… И все-таки мусульмане прежде всего – мусульмане.
И тут Богдан понял.
– Царица Небесная, – пробормотал он, внезапно ослабев, – Пресвятая Богородица…
– Плиехали, длагоценные плезделозденные, – сказал водитель.
Гостиница “Шоуду”,
23-й день первого месяца, вторница,
вечер
“Что да, то да, – повторял про себя Богдан, стоя в полном зеркал и благопожелательных надписей, плавно возносящемся сквозь этажи прозрачном лифте рядом со счастливой женою, кремневым тестем и его старшим внуком, с жадным любопытством рассматривавшим столичное великолепие. – Что да, то да. Приехали. Дальше некуда…”
На самом деле он ничего еще не понял. Он понял лишь, что ему очень тревожно. Очень.
По широкому коридору, застланному протяжным, как Великая стена, и мягким, как облака бессмертных ковром, Богдан и Фирузе почтительно проводили бека с внуком до их номера и остались втроем. Минфа непроизвольно попытался хоть теперь взять у супруги Ангелину, но Фирузе не позволила ему и лишь спросила строго:
– А кто понесет ружье?
И сама же первая засмеялась, щурясь и чуть искоса глядя на Богдана сверкающими от счастья встречи огромными глазами.
– Фира, – с неожиданной серьезностью вдруг спросил минфа. Поправил очки. – Скажи…. Ты тоже?
– Что? – не поняла она.
– Ты тоже в первую очередь мусульманка, а уж потом – подданная Ордуси, моя жена и все прочее… да?
Она остановилась, и шаловливость мигом сошла с ее лица.
Несколько мгновений она не отвечала мужу, и похоже было, что она честно пытается прислушаться к себе, к сокровенной своей глубине. Когда она заговорила, голос ее звучал, как звучат молитвы.