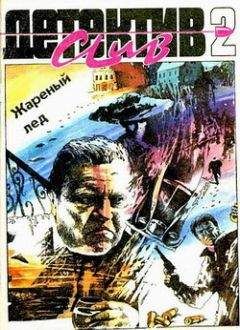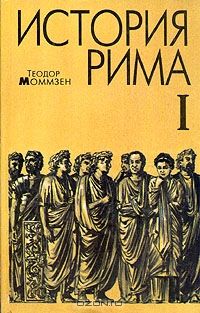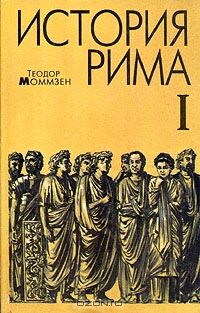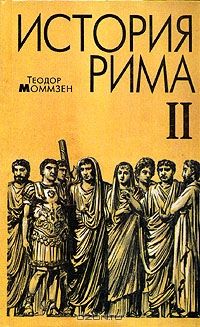Фрэнсис Спаффорд - Страна Изобилия
Поздно, пора домой. Он собирает бумаги, засовывает их в специальный портфель, который оставит у вахтера на проходной. Он не видит в своей работе ничего чудесного, никакие слова, обозначающие тайну, тут не подходят. Он знает эту штуку как облупленную. И все-таки в том, как безмолвная материя накапливается в его машинах, поднимаясь все выше и выше, образец за образцом, пока в ней не проявятся образцы самой мысли, — в этом есть нечто такое, что до сих пор всякий раз поражает его, восхищает. В самом первом компьютере, который он создал, в устройстве памяти использовались звуковые волны, эхом распространявшиеся по ртути. Ртути давно нет, она осталась разве что в его воображении: подчиняясь логике грез, он понимает, что его призвание — создавать из ртути мыслящие озера, в которых отражается мир.
В ясном озере БЭСМ образы колышутся, подергиваются рябью: 348 московских поставщиков картофеля, 125 потребителей. Экономисты сознают, как трудно добиться того, чтобы модель для вычислений отражала мир истинным образом. Они различают два способа работы: двигаться “от задачи” и “от фотографии”. Всегда лучше работать от задачи, напрямую разузнавать, как на деле функционируют организации, однако обычно более практический способ — работать от фотографии, следовать данным, которые поступают от организаций. Эти расчеты, увы, делаются от фотографии. Тут рассматривается доставка картофеля в том виде, в каком о ней сообщили Леониду Витальевичу и его коллегам. Времени ездить по хранилищам, беседовать с заведующими, кататься на грузовиках не было. Но все равно программа должна работать. Опять условные утверждения: она будет работать, если цифры надежные. Она будет работать, если осознанно перенаправить доставку картофеля так, как решит программа. Она будет работать, если циклы оптимизации в программе совместимы с циклами в советской жизни, с помощью которых делаются дела.
Такая вот точка зрения.
3. Бурные аплодисменты. 1961 год
Везет Саше Галичу. Везет Саше: скуластый, с курчавыми волосами, с платком, повязанным вокруг шеи, словно флаг — символ передышки. Везет Саше: делает вид, будто все просто, бренчит на пианино в своей полной древностей квартире возле метро “Аэропорт”, сочиняет очередной шедевр; а нет, так отстукивает новые остроумные реплики на своей аккуратной пишущей машинке. Немного поседел — ему уже за сорок, — но не потерял очарования. Везет Саше, ему доверяют, его балуют: жена, которая все ему позволяет, подруги-актрисы, поездки в Париж. Иностранцам он нравился, но при этом долг свой знал. Никогда не переходил черту. Никогда не вызывал неприятностей. И вот на него так и сыплются награды — еще бы, талант. Везет же Саше Галичу.
Он пришел на обед раньше назначенного часа. Думал, что придется ждать, а поскольку встал поздно — немного сказывалась прошлая ночь, — то был не против немного посидеть внутри, в тени тихого коридора. Но вместо того секретарша Морина провела его прямо по главному этажу газетной редакции в комнатку со стеклянными стенами в углу башни. Вид вниз, на бульвар, тянулся до самой Москвы-реки; облака, которые час назад, казалось, обещали первый осенний снег, рассеялись. Над городом внезапно выросла крыша ясного воздуха. Если смотреть через толстое стекло окон, создавалось ощущение, будто он заключен в линзу синевы.
У Морина шло совещание. На длинном столе были рядком разложены гранки, он крупными пальцами придерживал одну полосу пониже середины, а жилистая женщина под сорок склонилась над ней с синим карандашом в руке. Пока она говорила, молодой человек сбоку от Морина быстро записывал что-то в блокнот. В комнате был еще один человек, гораздо старше; он сидел, опустив голову на грудь, и хотя не спал, но всей своей манерой выражал безразличие. Это, решил Галич, должно быть, символический главред газеты, формальный начальник Морина — ископаемое, как осторожно намекал Морин за покером, — по-прежнему мрачно цепляющийся за должность, однако полагающийся на Морина во всем, что касалось нынешних перепадов, кого угодно способных ввести в замешательство. А женщина, наверное, штатный представитель Главлита. Галич узнал эту картину по тысячам заседаний, где литовали тексты: “Натюрморт с цензором”.
— Саша! — приветствовал его Морин. — Мы уже заканчиваем. Присядь на минутку. Никто ведь не будет возражать? Товарищи, Марфа Тимофеевна, позвольте представить Александра Галича — автора множества известных вам пьес и множества песен, которые вы наверняка знаете на память.
Господи, подумал Саша. Парень с блокнотом коротко улыбнулся ему; лицо его вблизи выглядело заострившимся, голодным — такие бывают у бывших детдомовцев. Главред в углу хрюкнул, до того невыразительно, что можно было подумать, будто это вышел воздух откуда-то из-под земли. Однако Марфа Тимофеевна смущенно улыбнулась, переложила синий карандаш в другую руку и протянула правую для пожатия, совсем как школьница.
— Тот самый Александр Галич? — спросила она.
— Ну, во всяком случае, других я таких не знаю, — ответил Саша.
— Мне так понравилась “Москва слезам не верит”, — сказала она. — Я еще думала, как это… правдиво. Какое понимание. И сама пьеса такая замечательная.
Прекрасно, подумал Саша, цензору нравится моя работа, цензор считает, что я пишу правдиво. Однако он тут же поймал себя на том, что придумывает биографию этой женщине в тщательно подобранном жакете и — вот не повезло — с крупным носом. “Живет с матерью, ходит на выставки, на концерты с партитурой в папочке. Замужем не была. Нет — была однажды, но всего год, за меланхоликом”. И он автоматически окинул ее теплым взглядом, задержал ее руку в своей на мгновение дольше, чем она ожидала.
— Спасибо, тронут, — сказал он. — Сам я, конечно, замечаю в своей работе главным образом недостатки. Мои знакомые женщины не дают мне сбиться с пути; как выясняется, просто слушать их — огромное подспорье для писателя, который хочет, чтобы женские голоса у него звучали правдоподобно.
“Тощие ноги, а бедра, наверное, как выцветшие кости верблюда, которого бросили помирать в пустыне”.
— Впрочем, — продолжал он, — не буду отрывать вас от работы.
Он видел, глядя поверх их плеч, что гранки содержат текст речи, очень длинной речи, колонка за колонкой печатного текста, а значит, это, вероятно, обращение, с которым Хрущев должен был выступить сегодня перед съездом. Разматывающиеся абзацы тут и там прерывали выражения восторга, набранные курсивом. Обычные (Аплодисменты) снова и снова; время от времени раздается (Смех) — Хрущев есть Хрущев; по мере того как речь набирает обороты, (Продолжительные аплодисменты), а в моменты настоящих приступов возбуждения — отклики, от которых советской аудитории, как известно, никогда не удается удержаться: (Бурные аплодисменты). Возможно, речь была напечатана еще до того, как Никита Сергеич ее произнес, но Галич был уверен, что оркестровке, указанной в гранках, можно доверять. Это наверняка были именно те моменты, когда две тысячи делегатов под огромными кремлевскими сводами должны были одобрительно загреметь. Вот бы с театральной публикой все получалось так легко.
— Прошу вас, — повторил он, — не обращайте на меня внимания.
— Правильно, — легко согласился Морин. — Давайте позволим Марфе Тимофеевне не дать нам сбиться с пути.
Он произнес эти слова таким тоном, что каким-то образом ухитрился одновременно передать: цензура — это глупо, но глупо и возражать против нее. Галич не отказал Морину в коротком всплеске внутренних (Аплодисментов); в висках у него что-то шептала головная боль. Он и сам был мастер находить приятные, цивилизованные описания вещей, с которыми ничего не поделать, однако Морин к тому же умел отыскать точные нотки, соответствующие моменту: либеральнонастроенные, но без вызова, ироничные, но необидные.
Троица вернулась к делу. За работой Морин весело и мелодично причмокивал губами. Такие же он издавал позавчерашним вечером, рассматривая свою карту, на удивление хорошо скрывая, какая она сильная. Галич бросил сумку на длинный, глубокий редакторский диван и сел, готовый, если потребуется, вести беседу с заброшенной седой глыбой в углу. Однако главред, лишь занимавший свою должность, продолжал кисло пялиться в пространство. По возрасту он как раз попадал в поколение тех, кто унаследовал газету в 30-е, в свое время, возможно, играл роль Морина, прекрасно владел жестоким языком того момента и, когда всех этих интеллектуалов со странными фамилиями вытряхнули из советских газет, оказался готов подняться на их место. Галичу было тогда — сколько? — лет двадцать, он ежедневно ездил на метро на занятия в студии Станиславского. Играл на гитаре в парке.
Влюблялся. Спал с девушками. Ликовал. Сам впервые испытывал это ощущение успеха: как легко, оказывается, говорить на жаргоне времени — так, чтобы подвести дело к счастливому смеху.