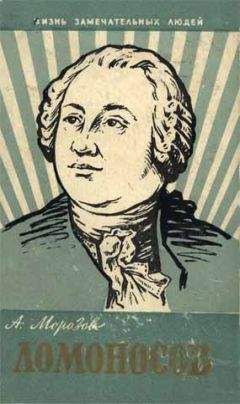Александр Морозов - Программист
— Да нет, давай я запишу. — Я прочно подпер спиной вход в будку. — И дело с концом. А то мне там в одно, в другое место надо будет звонить…
Тогда Лиля бесстрастным, четким голосом продиктовала мне адрес и объяснила два варианта, как доехать. Потом добавила: «Его зовут Давид Иоселиани».
Так я второй раз услышал об Иоселиани.
Ее голос сразу возник из телефона, живой, теплый… именно ее голос.
— Милый, — сказал голос, — знаешь что, приходи сегодня ко мне. Я хочу показать тебе, как я живу. Придешь?
— Лидик, это лучше, чем все, что я мог ожидать. Но мне сейчас дали адрес, нужно подскочить к одному человечку…
— Конечно, к женщине?
— Увы, к мужчине. Во всяком случае, это существо, которое зовут Давид Иоселиани. Как ты думаешь, это может быть женщина?
— У вас там, у кибернетиков, все может быть. Слушай, Гена, а это надолго?
— Думаю, часика на два, не больше. И понимаешь, никак нельзя отложить. Завтра он куда-то исчезает. Мне это, во-первых, самому нужно, а во-вторых, с ним уже договорились, так что неудобно не приехать.
— А заставлять любимую женщину ждать два часа удобно?
— Ну, Лида… Я на такси туда, на такси обратно.
— Вот что, я уже настроилась и ждать больше не намерена. Бери меня с собой, и все.
— Тебе будет скучно.
— Не будет. Я посижу в стороне. А ради скучного разговора, между прочим, и ездить никуда не стоит. Вот так вот, Геннадии Александрович. Вы меня поняли?
— Я тебя понял и целую.
— Через трубку не пойдет. Потерпи десять минут. Бери машину и подъезжай к углу Горького и Маркса. На той стороне, где «Националь». Понял? Я буду там.
Я взял такси и подъехал к углу Горького и Маркса с той стороны, где «Националь». Подъехал не через десять, а через восемь минут; Но там, за металлическим красно-желтым барьерчиком уже стоял памятник моей удачливости, моей неотвратимой, разрушительной удачливости. Стояла Лида, стояла и всматривалась в подъезжающие машины, стояла наглядным доказательством, что последняя осень не прошла для меня бесследно.
Когда я, не дожидаясь полной остановки машины, открыл дверцу и помахал ей, Лида тотчас заметила меня и,
грациозно размахивая сумочкой, подбежала к барьеру. Я выскочил из машины и заскользил к барьеру с внешней стороны. Чтобы не упасть, я обеими руками ухватился за ее плечи, и Лида тоже поскользнулась и тоже чуть-чуть не потеряла равновесия. Потом я отпустил ее плечи, взял ее руки в свои, мы посмотрели друг на друга и рассмеялись.
— Значит, говоришь, ее зовут «Давид Иоселиани»? — говорила Лида, пока я помогал ей преодолеть барьер. — Да еще без меня хотел…
Потом мы долго ехали по адресу, который мне дала Самусевич, и я готов был ехать еще дальше. Лида, уйдя в шубку, сидела молча, устремив вперед неподвижный взгляд. Она казалась лунатиком, ничего не видящим и не слышащим вокруг. На левых поворотах ее плотно прижимало ко мне, на правых — к дверце машины, но она даже не вынимала из карманов рук, чтобы опереться о сиденье. Я смотрел на ее лицо, по которому пробегало все разноцветье вечерней Москвы, и почему-то вспомнил салюты.
Не те салюты, которые теперь застают меня в праздничных компаниях, когда лениво приглушают телевизор, лениво натыкают па вилку грибок и с грибком и стопочкой подходят к занавеске, чтобы пару раз взглянуть на букеты, расцветающие в черном небе» Эти салюты для меня как бы и не салюты, а так, фейерверк.
Вот тогда, во время войны, — это были салюты. Мы жили на Пушкинской, в доме, где сначала был пивбар и кинотеатр «Новости дня», потом диетическая столовая и аптека, а сейчас зеленый газон, а дома и вовсе нет. Мы, мальчишки, знали, на каких крышах расставлены ракетницы, мы рассчитывали силу ветра и место падения горячих пыжей, потому что охотиться за ними было делом чести.
Еще бы! Ведь ходили слухи, что на одном мальчишке от падающего с неба горячего гостинца загорелась одежда и его якобы спасла только случайно оказавшаяся рядом поливочная машина.
О, эта детская страсть к преувеличениям, эта безоглядная тяга к невероятному! Все должно было быть «самое-самое». Я помню, как серьезно и долго, со всевозможными схоластическими ухищрениями и тонкостями дебатировался вопрос: что будет, если самый мощный танк на самой большой скорости врежется в самое толстое, самое высокое и вообще самое-самое дерево. В какой-нибудь вековой дуб, например. Необходимо было, чтобы все известные нам явления были доведены до своего пика, своего максимума и в таком предельном виде персонифицированы в одном-единственном герое. Это и порождало истории о шофере-силаче, который, чтобы починить свой грузовик, кладет его набок; или о футболисте, который выходит на игру с черным бантом на правой ноге. Бить правой ногой ему-де запрещено — с правой убивает.
За всеми этими историями скрывался наш невероятный и волнующий, как открытое море, мир, который почти не соприкасался со скудностью, нервностью и плохо скрытыми слезами реального бытия. А несколько раз в году наш таинственный и захватывающий мир давал нам веское, неоспоримое свидетельство своего существования. Это были дни, когда мы из черных и холодных подворотен и переулков выбегали навстречу салюту. Выбегали из голода, слабости, страха — навстречу свету, чистоте, будущему.
Ее глаза напряженно смотрели вперед, но я четко знал, что она сейчас ничего не видит. Ничего, кроме цветных пятен, мчащихся мимо. О чем она думала? Наверное, ни о чем. Может быть, впитывала в себя счастье, которое — вряд ли-она могла об этом не догадываться — было слишком безоглядным, слишком ярким. Наверное, когда-то давно она уже проверила теорию равновесия и сейчас не хотела даже думать о том, что ждет ее позже. Через месяц, через год… Это приходит и уходит. И каждый раз, когда это приходит, нам не верится, нам до последней минуты не верится, что это может уйти. И мы сами часто делаем все, что можно, и даже более того, чтобы это ушло.
Машина остановилась, и шофер, включив свет в салоне, крутанул счетчик. Мы были в глухой замоскворецкой части Москвы. Мы были на месте. На четвертом этаже, два окна от подъезда слева, свет горел.
Давид Иоселиани — лысый, коротконогий, с могучим торсом и хитрыми глазами — встретил нас приветливо и деловито. То, что я пришел не один, его не удивило и не озадачило. После того как, пожав протянутую ему Лидой руку, он назвал свое имя, хозяин квартиры не обращал уже на мою спутницу ни малейшего внимания. Меня же он взял под руку и, отведя в сторону, сказал:
— А, так это вы меморандум по Курилово задумали? Ну что ж, посмотрим, что у вас получится. Мне о вас Цейтлин сказал. («При чем здесь Цейтлин?» — подумал я, но промолчал.) Статью мою читали? В 66-м году в сборнике работ аспирантов МЭИ?
— Нет, — сказал я. — Мне только сегодня сообщили об этой работе.
— И не читайте. Устарело. Подходы, знаете ли, одни. А вам что же подходить? Вам дело делать нужно. Так, что ли?
— Примерно так.
— Ну вот, примерно. Значит, я вам сразу скажу: проблему эту я вижу и давно вокруг нее хожу. Но чего-то все не хватает. А чего, неясно. Понятно?
— Да. Только я не знаю, что есть у вас, а мне так кажется, что не хватает всего.
— Ну всего не всего, а вот самого главного нет. Это верно, самого главного нет.
И Иоселиани в двух словах рассказал мне, что же это за главное, чего у него нет. Для этого ему, конечно, сначала пришлось рассказать, что у него есть. Оказалось, что у него есть на удивление много. Кое-что в 1968–1969 годах было опубликовано в сборниках ДСПЛ (для служебного пользования), но основное было у него под рукой. В прямом и переносном смысле. Материала было уже на целую книгу, но он давно не публиковал даже статей. Считал, что без ядра все его частные работы немногого стоят. Носят слишком частный, никому не интересный и не понятный характер.
Я бы так не сказал, но это было, конечно, его дело. Он шел тем же путем, что и я. То есть он уже шел по нему несколько лет, по пути, который мне только начал видеться.
Общая теория систем математического обеспечения! Иоселиани не говорил этих слов, но то, что он делал, для меня называлось именно так. Более того, на пухлой папке, лежащей у него под локтем, я прочел совсем другое: «Формальные параметры систем обработки экономической информации».
Но разве дело было в названиях? Каждый из нас наконец мог говорить на своем индивидуальном жаргоне, лишь бы думали одно и то же и понимали друг друга.
Иоселиани сделал многое из того, на что я немедленно натыкался при желании серьезно сравнить четыре системы. Он шел с двух сторон: с накопления фактического материала и с разработки теории. Теория в данном случае, как в американских работах по искусственному интеллекту, состояла из ряда сложных, анализирующих программ.
Фактического материала он наработал более чем достаточно. В частности, он провел детальнейшее, по десятку параметров сравнение шестнадцати (именно так — шестнадцати) программ сортировки, взятых им из известных в литературе наших, американских и японских систем обработки экономической информации. В ходе сравнения Иоселиани вводил ряд важных, полезных для дальнейшего понятий.