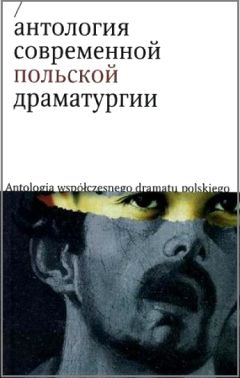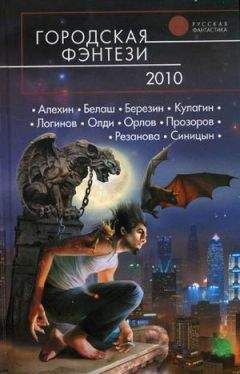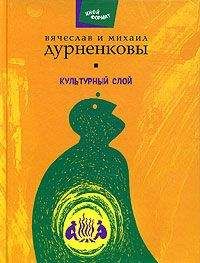Анджей Барт - Фабрика мухобоек
– Продолжайте, господин адвокат, не то мы отсюда никогда не уйдем…
Регина поняла, что Борнштайн не терял времени даром. Пока шли эти перепалки, он, видимо, что-то придумал.
– Раз уж мы смотрим фильм, попрошу отмотать пленку назад…
Старичок, обслуживающий проектор, долго не мог найти нужное место.
– Вот здесь, пожалуйста, остановитесь. Чуть-чуть вперед. Спасибо, хорошо. Прошу всех внимательно посмотреть на экран. Видите неестественный блеск в глазу? Это слеза. Несомненно… Этот человек плачет.
– Какая там слеза – случайный блик, – раздраженно выкрикнул Вильский.
– Чистой воды слеза.
– Вам хочется, чтобы так было. Ладно, пускай. Я тоже попрошу немного перемотать пленку. В самом начале я заметил кое-что весьма характерное. Еще, еще… Вот здесь, перед тем, как он поднимется на трибуну. Прошу обратить внимание, с какой грацией наш Мордехай достает расческу и приглаживает волосы. Может ли человек, который через минуту заплачет, думать о своей прическе?
– Это непроизвольный жест человека, который через минуту взойдет на эшафот. Кто знает, господин прокурор, не захотелось ли бы вам, окажись вы в подобной ситуации, причесаться или просто чем-нибудь занять руки… – Борнштайн еще не договорил, но Регина уже поняла, на что он рассчитывает. И не ошиблась: в зале захихикали, а прокурор нервно потер лысину. – Господин председатель заплакал, потому что дети были смыслом его жизни. Полагаю, всем вам известно, что, будь это возможно, он с радостью отдал бы руку за спасение хотя бы одного ребенка.
– Это вы так полагаете. Когда председателю юденрата в соседней Здунской Воле приказали доставить для отправки на смерть тысячу евреев, он сказал, что может привести только четверых: себя самого, свою жену и двоих детей. И за это поплатился не рукой, а жизнью.
– Благородный поступок… но чем это помогло евреям из Здунской Воли?
– Все погибли – так же, как евреи из лодзинского гетто, где не благородство правило бал, а подлость.
– Ваша честь, запретите обвинителю оскорблять человека, которому он в подметки не годится. Благодаря своему прагматизму господин председатель – единственный в мире! – сумел тогда спасти семьдесят тысяч евреев. Он их благодетель. И эту очевидную истину не могут опровергнуть даже злейшие его враги.
– Позвольте, ваша честь, задать вопрос Етле Яблонской, хоть она и не была заявлена в качестве свидетеля. Вон та женщина в черной кофте… в предпоследнем ряду… – Обвинитель на кого-то указывал рукой.
– Задавайте, только покороче. – Судья облокотился на стол и обхватил голову руками. То ли о чем-то задумался, то ли отгородился от происходящего.
– Госпожа Яблонская, вы были на Лагевницкой, когда гестаповцы пришли в больницу за детьми и больными, отдать которых так красноречиво просил правитель гетто…
– Протестую! Называя господина председателя правителем гетто, обвинение ставит его на одну доску с немецкими властями, – вмешался Борнштайн.
Регина подумала, что на его месте поступила бы так же. Нельзя допускать подобные сравнения.
– А я рекомендую господину адвокату не отвлекать судью несущественными мелочами – для его клиента это может плохо кончиться. – Казалось, Вильский, угадав, о чем она подумала, хочет оборвать ход ее мыслей. – Мне бы, конечно, не следовало давать советы защите, но это я так, по доброте душевной… Говорите. Вы бежите на Лагевницкую, чтобы забрать из больницы отца…
Етля Яблонская раскрыла рот, но тут же закашлялась. Когда-то она была очень хороша собой, да и сейчас на ее лице проглядывали следы былой красоты. Только вот кашель не оставлял сомнений, что жить ей осталось недолго.
– Я знала, что первым делом будут забирать из больниц детей и стариков. А у меня отец лежал в больнице, он где-то заразился туберкулезом. Дома я хотя бы могла его спрятать – например, под кроватью… у нас была высокая кровать…
– При всем моем уважении к вашему отцу, попрошу рассказать только о том, что делалось перед больницей. Мне не разрешено долго с вами говорить…
– Я несла папе пальто, чтобы он надел его на пижаму, и так мы бы вышли. Издалека я увидела грузовики и оцепление – к больнице никого не подпускали. Я поняла, что опоздала. Стояла и плакала…
– И что еще вы увидели?
– Гестаповцы с верхних этажей выкидывали подушки. Я даже удивилась: ведь про них никак нельзя сказать, что они не берегут добро. На следующий день я узнала, что это были маленькие дети… их выбрасывали вместе с постелью. Папу, конечно…
– Спасибо большое за ваш рассказ. – Вильский поклонился и обратился к залу: – Вот таким образом маленькие дети, отдать которых просил наш благодетель, покидали его государство. Заметим: государство, созданное бывшим директором приюта. Страшно подумать, что до войны в его руках были судьбы детей…
Регине был отвратителен этот человек, красующийся перед сидящими в зале, будто тенор на концерте в женской гимназии, однако она понимала, что должна скрывать свои чувства. Впрочем, справедливости ради следовало признать, что он мастерски умеет играть на эмоциях. На суде она бы с ним не смогла справиться – одно утешение, что в Лодзи никто б не смог. Разве что ее шеф Эмиль Монтляк разделал бы его под орех, да и то не наверняка…
– Звучит впечатляюще! – воскликнул защитник. – Обвинение пытается возложить всю вину за то, что случилось с евреями, на господина председателя. Я выслушал эти – назовем вещи своими именами – наглые инсинуации с грустью, но и, прямо скажу, с восхищением: надо уметь так ловко водить людей за нос! А сейчас я воспользуюсь тем, что господин судья задумался, и, нарушив правила, задам несколько вопросов свидетелю, который также не был раньше заявлен. Господин Борнштайн, прошу вас занять свидетельское место…
Люди в зале стали с недоумением переглядываться, но никто не встал, да и служитель явно не собирался никого вызывать из коридора. Регина первая заметила, что защитник сам уже стоит за пюпитром, и у нее мелькнула мысль, что он сошел с ума.
– Меня зовут Генрик Борнштайн, – представился он. И тут же задал себе вопрос: – Не могли бы вы рассказать о своей сестре? – Утвердительно кивнул и продолжил: – Ее звали Мириам, так же как ту, что потом стала для христиан Марией. Чудесный ребенок; пяти лет от роду она уже читала на трех языках. – И сам себя одернул: – Нельзя ли покороче? – Ответил: – Да, да, конечно. В гетто она заболела дифтеритом, и мы положили ее в больницу. Узнав, чего требуют немцы, я пошел туда, как и госпожа Яблонская, намеревавшаяся забрать своего отца. Мне обещал помочь мой друг, доктор Хальберштадт – он, правда, работал в другой больнице, на Древновской, но у него было врачебное удостоверение, с которым его всюду пускали. На Лагевницкой стояли армейские грузовики и слышны были душераздирающие крики. Я растерялся, но Людвик – так звали Хальберштадта, и я хочу, чтобы вы запомнили его имя, – велел мне ждать и прошел через оцепление, даже не показав документа. Я ждал и еще надеялся, что сумею где-нибудь спрятать Мириам. Как и госпожа Яблонская, я видел летящие из окон «подушки». Когда машины уехали, я кинулся к больнице и услышал писк, раздававшийся из одной такой подушки. Только тогда я понял, что из окон выбрасывали детей в конвертах или как там это называется… На вопрос, который наверняка сейчас прозвучит: удалось ли спасти мою сестру? – отвечаю: нет. На второй вопрос: какова судьба доктора Хальберштадта? – отвечаю: когда я его отыскал, он был еще жив и силился что-то сказать, но мешала застрявшая в горле пуля. По словам других врачей, гестаповцы увидели, что он пытается спрятать ребенка. Какого ребенка, они не знали – там ведь был сущий ад. – Помолчав, Борнштайн закончил: – Если это все, мы благодарим свидетеля, – и вышел из-за пюпитра.
Регина знала, что подобного рода тишина редко воцаряется в залах суда – тем более там, где каждый ждет очереди рассказать свою невообразимо страшную историю.
– Как, по-вашему, – Генрик Борнштайн подошел к скамье присяжных и поочередно посмотрел в лицо каждому, – должен я считать господина председателя виновником трагедии, которая произошла с детьми, в том числе и с моей сестрой? А почему бы мне не винить себя? – ведь я не бросился на гестаповцев, конвоировавших отъезжающие машины. Я не стану сейчас вызывать в качестве свидетеля господина прокурора и спрашивать, что он делал в тот день, когда из гетто забирали детей, и как ему тогда работалось в архиве, в материалах которого, как все мы знаем, часто встречаются похвалы в адрес обвиняемого. Я даже не спрошу у него – хотя с трудом себя сдерживаю, – помнит ли он, как отплясывал на торжественном вечере, устроенном работниками фабрики щеток по случаю дня рождения господина председателя.
Прокурор возвращался на свое место походкой человека, которому отбили почки. Когда наконец он с видимым облегчением опустился на стул, раздался хруст раздавленного стекла – Вильский так и подпрыгнул, вероятно, не только от неожиданности, но и от боли. Регина заметила, что судья устремил взгляд на нее, но – всевидящий! – он вполне мог смотреть и на Марека. Она б испугалась, если бы – к величайшему своему изумлению – не увидела на лице судьи тень улыбки.