Роберт О'Брайен - Z значит Захария
А пока я сменила тему на более мирную:
— Сколько шагов вы смогли сделать?
— Четыре, держась за кровать. А утром было только три.
— Как только вы сможете ходить увереннее, я поставлю для вас на веранде кресло. Тогда вы сможете ненадолго покидать вашу комнату.
— Да, я об этом подумывал. И на заднем крыльце тоже — оттуда я смогу наблюдать за полем и огородом.
— Кукуруза уже взошла, — сообщила я. — Ещё несколько дней — и мне нужно будет проредить её. А бобы проросли, но ещё не взошли.
— Как насчёт свёклы? И пшеницы?
— Ну... я, вообще-то, не планировала...
— А должна бы! И не только на следующий год, но и на отдалённое будущее. Свёкла — это сахар. А пшеница — мука.
Я пустилась в объяснения, что поскольку мои силы в плане сельскохозяйственных работ были ограничены, то я вдобавок к кукурузе и бобам включала в планы совсем немного культур: ну, там, тыкву, турнепс, кабачки и прочее, а про свёклу не думала совсем. В магазине были семена всех этих растений. Но что правда, то правда — когда я составляла планы, я не рассчитывала на трактор.
— Знаю, о чём ты думаешь, — сказал мистер Лумис. — В магазине полно сахара. Я сам видел. На какое-то время его хватит. А когда он кончится — что тогда? Видишь, как это глупо и недальновидно, — едко добавил он и продолжил: — Я долго лежал в постели, и мне нечего было делать — только размышлять. И пришёл к выводу, что за основу для своих планов нам нужно принять, что долина — это и есть весь мир, а мы станем основателями колонии — долгосрочной, стабильной колонии.
Это была та же мысль (или почти та же), что владела мной, когда я пахала и ощущала, будто помогаю сохранению жизни на планете. Тогда, в поле, я была счастлива, но сейчас... От его слов, вернее, от того, как он это сказал, мне стало слегка не по себе. Не знаю, почему.
Я забрала у мистера Лумиса поднос и направилась к двери, и тут мой гость сказал:
— Когда пойдёшь в эту свою церковь, то если хочешь помолиться за что-то действительно стоящее — молись за того бычка.
Я опешила:
— Простите? — По-моему, с бычком всё было в полном порядке.
Мистер Лумис пояснил:
— Когда бензин закончится, тянуть плуг будет скот.
А ведь и правда: некоторые особо консервативные амиши пахали на мулах или волах; помню — сама видела, когда была маленькой. Даже в нашем собственном амбаре на стене висела старая деревянная и кожаная сбруя, хотя, кажется, ею никто никогда не пользовался.
Мистер Лумис подразумевал, что нам нужно увеличить поголовье; да я и сама планировала это.
Мистер Лумис попросил меня принести ему из магазина новую бритву и лезвия. Получив их, он сбрил свою щетину и сразу стал выглядеть здоровее.
Глава 16
24 июня
За эти несколько дней чувство тревоги во мне укрепилось и выросло.
По требованию мистера Лумиса я посеяла пшеницу и свёклу. Два длинных ряда свёклы располагались в том же поле, что и кукуруза, по соседству с соей. Если урожай будет хорошим, то нам всей этой свёклы не съесть; но, в общем-то, цель была собрать семена. Если я буду поступать так каждый год, то когда придёт время и нам понадобится сахар, семян у нас будет предостаточно. Должна признать идею мистера Лумиса разумной.
На маленьком поле не было места для пшеницы, поэтому я посеяла её — примерно пол-акра — на дальнем поле, за прудом. То есть, пастбище немного сократится, но это не беда: после того как я сделаю запас семенного зерна, коровы съедят то, что останется. Куры тоже могут питаться пшеницей, хотя кукуруза им нравится больше.
Я объяснила мистеру Лумису, почему не собиралась выращивать пшеницу — потому что у меня не было ни малейшей возможности смолоть её на муку.
— Это неважно, — заявил он. — Когда я поправлюсь и буду лучше ходить, тогда и придумаем, как её смолоть. Важно не дать видам вымереть.
Но я чувствовала себя не в своей тарелке не из-за всего этого. Дело было совсем в другом.
Я, как обещала, поставила для мистера Лумиса на передней веранде кресло — небольшое, с мягкой обивкой; я взяла его в комнате родителей. К нему прилагалась ещё и скамеечка для ног, её я тоже снесла вниз, прихватив подушку и одеяло. Мистеру Лумису будет хорошо и удобно, а крыша веранды защитит его от солнечных лучей.
По его просьбе я также поставила стул и на заднем крыльце; места для скамеечки там не было, так что на передней веранде сидеть куда удобнее. Однако когда я вчера утром спросила мистера Лумиса, где ему хотелось бы посидеть, он ответил: на заднем крыльце.
Впервые за всё время своей болезни мой гость пустился в такой далёкий путь, но он справился неплохо. Я вспомнила кое-что, пошарила в шкафу для верхней одежды и нашла тросточку, с которой отец ходил, когда растянул лодыжку. Вот так, опираясь на трость и тяжело налегая мне на плечи, мистер Лумис добрался до стула на заднем крыльце. Колени его по-прежнему подгибаются; стопы он тоже толком не может оторвать от пола, но при этом как-то всё-таки умудряется медленно, с шарканьем, продвигаться вперёд.
Он сидел там всё утро, наблюдая за тем, как я пашу, бороню и засаживаю два ряда свёклой. Совсем как надсмотрщик!
Подошло время ланча, я выключила двигатель трактора, чтобы не тратить зря бензин, и пришла в усадьбу пешком.
После ланча мистер Лумис лёг спать у себя, а я принялась за работу на пшеничном поле. Когда солнце стало склоняться за западную гряду, я вернулась в дом. Мистер Лумис уже проснулся и снова захотел выйти на воздух, на этот раз на переднюю веранду. Я помогла ему добраться до стула, подставила ему под ноги скамеечку и закутала его в одеяло. А сама пошла на кухню готовить ужин.
То, что случилось после этого, полагаю, частично моя собственная вина. Сунув еду в духовку и поставив чайник, я взяла из столовой стул, вынесла его на веранду и села около мистера Лумиса. Солнце заходило, и мы опять, как когда-то, любовались игрой света, постепенно переходящего из жёлтого в красный.
Кроме того, что мне хотелось просто отдохнуть несколько минут, у меня была и другая причина для того, чтобы выйти к мистеру Лумису. Когда мой пациент пошёл на поправку, во мне зародилось беспокойство, и с каждым днём оно усиливалось. Меня тревожил тот факт, что я совсем не знаю своего гостя. Я так обрадовалась появлению другого человеческого существа, что не слишком-то задумывалась, кто же такой мистер Лумис; он казался довольно привлекательным и дружелюбным. Но в последнее время я чувствую, что совсем его не понимаю.
Он очень скупо выложил мне несколько фактов своей жизни: как работал в лаборатории над пластиками и защитным костюмом и о своём походе к подземной штаб-квартире ВВС. Из его кошмаров я узнала о конфликте с Эдвардом. И это было всё. Мистер Лумис никогда не говорил о себе — только о своих планах относительно генератора и немного о ведении хозяйства. Похоже, я не вызывала у него ни любопытства, ни интереса, если не считать того раза, когда ему понравилась моя игра на пианино.
Я даже выстроила себе гипотезу на этот счёт. Я решила: убийство Эдварда, одинокие месяцы в лаборатории, долгое безнадёжное путешествие по мёртвой стране — опять-таки в одиночестве — всё это было настолько ужасно, что душа его и разум омертвели. Когда он вспоминал прошлое, то прежде всего в его мыслях всплывал пережитый кошмар наяву, и поэтому он запретил себе вспоминать, запретил говорить о прошлом. Он у меня уже долгое время, а всё равно остаётся загадкой.
Я не хотела говорить ни об Эдварде (решила, что, скорее всего, вообще никогда не стану затрагивать эту тему), ни о лаборатории; я хотела, чтобы мистер Лумис рассказал мне о временах до того. Я присела рядом с ним, но не знала, как подступиться к разговору. В книгах и кино в этих случаях произносят, мол, «давай поговорим о тебе», или «расскажи мне о себе», — но обычно это бывает при первой встрече, к этому же это такая избитая фраза...
Вспомнив, что ему понравилась моя музыка, я спросила:
— Когда вы были моложе, в вашей семье кто-нибудь играл на пианино?
Он ответил:
— Нет. У нас не было пианино.
— Вы были бедные?
— Да. У меня был двоюродный брат, и я часто ходил к нему в гости. У них было пианино — его мать играла. Мне нравилось слушать.
— А где это было?
— В одном городке в штате Нью-Йорк, в Найеке[18].
Он не стал объяснять, что это и где, и беседа заглохла, поскольку я понятия не имела, что это за Найек такой.
Я сделала вторую попытку.
— Чем вы занимались до того, как попали в Корнельский университет?
— Тем же, чем и все. Ходил в школу, потом в колледж, летом подрабатывал.
Похоже, предмет беседы его не интересовал и разговаривать об этом ему не хотелось.
Я спросила:
— И это всё?
— После колледжа провёл четыре года на флоте.
Кажется, дверь приоткрылась.

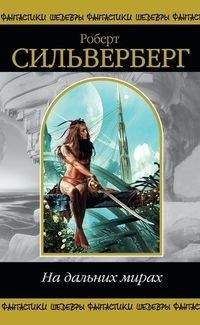
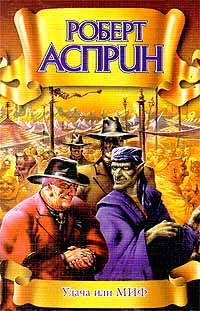
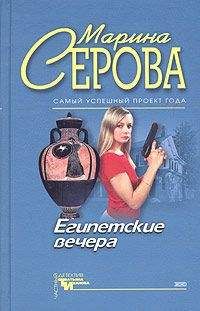
![Александра Гейл - Дневник любовницы мафии [СИ]](/uploads/posts/books/4209/4209.jpg)