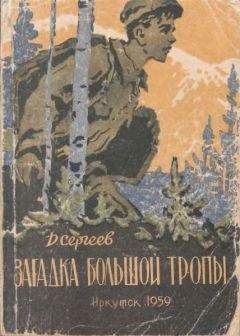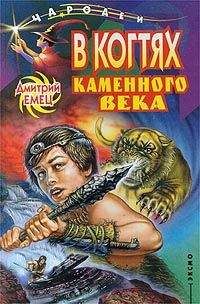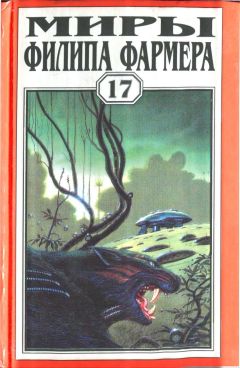Дмитрий Сергеев - Завещание каменного века
Заяц тоже знает, что обречен, – готовится к последнему, отчаянному прыжку. Но руки охотника уже готовы схватить зайца. Куда ему деться с такими длинными ушами?
Моя рука вот-вот ощутит теплую мякоть заячьих ушей.
– Не смей этого делать! – произнес знакомый голос, сразу никак не могу вспомнить, чей именно.
Проснулся от того, что сам шептал: "Не смей этого делать!". Чем-то эта фраза поразила, будто меня внезапно окатили ушатом холодной воды. Даже и наяву мысленно слышу тот же поразительно знакомый голос: "Не смей этого делать!".
Так ведь точно эта же фраза, произнесенная тем же голосом, который приснился мне, мелькнула в сознании у мальчишки, когда он с проволочным колпаком на голове сидел у камина!
Тогда я не обратил на нее внимания. Изо всех сил пытаюсь вспомнить, к чему именно относились эти слова. Интонации голоса Виктора, каким он прозвучал в памяти мальчишки, были неприкословными, запрет категорическим: "Не смей этого делать!".
Что же замышлял мальчишка? Я был убежден: нужно во что бы то ни стало вспомнить все самые закоулочные мысли мальчишки, которые промелькивали у него за эти четыре часа – от этого будет зависеть наша судьба. Сейчас я твердо знал: угрызения совести, которые мучали меня, были не моими-мальчишкиными. Где-то на самом дне подсознания я знал, что замышлял сделать мальчишка, ксифонная запись передала в мой мозг не голько информацию о том, что совершал он и о чем думал в эти четыре часа, но и самые потаенные его намерения.
"Меня пожалел один только мальчик".
Бестелесные интонации машинного голоса четко воспроизвелись в памяти. Бог мой! Я ведь уже тогда почти догадался обо всем.
"Не смей этого делать!"
Лицо Виктора словно вытесано резцом. Продольные морщины, рассекавшие его щеки, углубились и одеревенели. Он повернулся спиной к затопленному камину – из-за черной тени высокий лоб кажется вытесанным из базальта.
"Она останется одна. Совсем одна!"
Эти слова произнес я-мальчишка. Я о чем-то прошу, даже умоляю Виктора.
"Она всего лишь Машина – она не может страдать от одиночества".
"Дядя Виктор, – настаиваю я. – Вы же сами говорили: "Никому до конца не известно, что она может.
"Да. И поэтому нельзя вводить в нее лишнюю информацию – только то, что требуется для обслуживания астероида. Если бы… если бы ничего этого не произошло, ты бы сам стал мантенераиком. Поэтому я и доверил тебе пароль. Один только ты знаешь пароль. Ты и я".
Дальнейшее как обрезало. Вспышкой памяти осветило только кусочек сцены – разговор мальчишки с Виктором.
Пароль. Снова пароль. О каком пароле он говорил? Почему Эва знает, что должен быть какой-то пароль?
Еще немного, и я свихнусь.
От сумасшествия меня спасли тюремщики.
Я снова увидел Итгола и Эву. Нас вывели в тесный двор.
Стража в своих огненных одеждах выстроилась на плацу, вдоль стены и высокого забора из зубчатых палей. Не видно, чтобы где-то лежали дрова, приготовленные для костров. В каменном здании тюрьмы на высоте второго этажа странная галерея: изящные мраморные колонны удерживают сводчатое перекрытие, они кажутся легкомысленными и неуместными в колодезной тесноте тюремного двора.
По винтовой лестнице, вырубленной в каменной стене, нас провели наверх, и мы очутились в той самой галерее, которую видели внизу. Мрачное и легкомысленное уживалось здесь в тесном соседстве: причудливые узоры паркетного пола, яркий орнамент на потолке, ажурная стройность точеных колонн и смотровые щели-бойницы, пробитые сквозь трехметровую стену. В них можно видеть небольшую площадь перед тюремным фасадом. Крепкий миндальный запах защекотал ноздри – повеяло теплотою из темной ниши. Послышались знакомые шаги – в пещерной черноте потайного хода огненно вспыхнула кардинальская мантия.
Лицо Персия застыло в улыбке. Улыбка на его лице держалась слишком долго, и от этого оно выглядело неживым.
Откуда-то прикатили высоченное кресло-трон. Кардинал взобрался на сидение. Кресло развернули так, что лицо Персия пришлось вровень с бойницей. Он долго приглядывался к чему-то происходящему на площади. По его знаку приволокли еще три кресла. Эти были много проще кардинальского. Нас троих насильно усадили на них и придвинули к смотровым щелям.
Всей площади мне не видно – только небольшую часть. Колышущаяся толпа: головы, жадно сверкающие глаза и целый лес ушей. Словом, картина уже знакомая – площадь та самая, где мы однажды побывали. Выходит, я ошибся: здание, куда нас заточили, не просто тюрьма, а одновременно и дворец. Балкона на его фасаде сейчас не видно, но по тому, как вела себя толпа, я догадался – церемония началась. Стало быть, вчерашний штурм фильсов отразили успешно: иначе было бы не до торжественных спектаклей.
Опять как вчера на помост вбежала девочка, похожая на игривого котенка. Звонким голоском потребовала нашей смертной казни. Оказалось, что мы, гнусные обманщики, подкупленные фильсами, утверждаем, будто прибыли из другого мира. В городе распространились лживые слухи, что мы не похожи на остальных людей – у нас нет хвостов. В том, что слухи эти лживые, жители Герона удостоверятся сейчас.
В словах девочки была такая убежденность, что я невольно пощупал: не вырос ли у меня за эти сутки хвост. Я посмотрел на кардинала: что за шутки? Как они намереваются убедить толпу, что у нас есть хвосты? К Эвиному комбинезону даже нахвостник не пришили. Персии, должно быть, почувствовал взгляд, повернулся в мою сторону. Недобрая улыбка плотно свела его тонкие губы.
На площади своим чередом продолжалась церемония. Наблюдая в бойницу за происходящим, я совсем позабыл о роли, отведенной нам. Интересно, скоро ли появятся стражники, чтобы вести нас к месту казни. Только сейчас я заметил, что приготовлены вовсе не костры, а виселица. На перекладине болтались три веревочные петли.
Это решение было и вовсе непонятно. Нас же хотели сжечь, чтобы ни одна живая душа не могла увидеть нашу куцость.
Толпа затихла. Стал отчетливо слышел голос сусла, читающего с бумаги:
– Сейчас будет оглашено последнее слово обвиняемых. Они полностью осознали свою вину и чистосердечно раскаялись в преступлениях, совершенных против Герона и верхнего пандуса. Вы услышите подлинные слова, которые главарь шайки произнес на состоявшемся вчера судебном разбирательстве дела куцых. Итак, внимайте: "На следствии я без утайки признался в совершенных мною злодеяниях. Мой обвинитель справедливо назвал нас предателями и изменниками, людьми, лишенными стыда и совести, готовыми служить кому угодно – была бы хорошей плата. Мне нечего добавить к речи обвинителя. Я не прошу о снисхождении: такие, как я, недостойны взывать к милосердию.
Да, мы продались фильсам и распускали слух, будто бы мы явились из другого мира, а в доказательство утверждали, что у нас якобы нет хвостов. Это гнусная ложь. Я полностью признаю справедливость сурового приговора".
Ну, это уж они явно хватили через край – даже последнее слово составили вместо меня. Поскорее очутиться у виселицы – уж как-нибудь да сумею показать толпе, что хвоста у меня в самом деле нету.
Толпа внизу затаилась, притихла.
Появились стражники, вооруженные секирами. Одежды на них, как и на всех прочих, кто был на площади, черные. Из огненношерстной кардинальской гвардии не видно никого.
Вслед за вооруженным отрядом шагал глашатай.
– Смотрите! Все смотрите! Сейчас вы увидите мерзких лгунов, пособников фильсов!
И верно, позади него с понуро опущенными головами двигались трое.
Я опять поглядел на Персия: кардинал прильнул к смотровой щели – не оторвется.
Осужденных ввели на помост, я увидел их лица. Двое были знакомы мне: наш первый тюремщик и приказной дьяк. Дьяк скис окончательно, у него подкашивались ноги. Стражники вели его под руки. Тюремщик держался стойко. Похоже, он и теперь своим наметанным глазом оценивал: все ли делается как нужно. Дать ему в руки бумагу и карандаш – тотчас настрочит донос на своих палачей. Третий не сводил глаз с раскачивающейся веревочной петли – его лихорадило. В руках палача лязгнули тяжелые ножницы. Одним взмахом он распорол нахвостник дьяка – тощая розовая плеть оголенного хвоста сверкнула в воздухе. Дружным одобрительным вздохом отозвалась толпа.
– Негодяи! Обманщики!
В осужденных полетели камни. Стражники защищали их собственными щитами-барабанным боем грохотала туго натянутая шкура. Толпа понемногу утихомирилась.
Силы самостоятельно взойти на скамью хватило только у тюремщика, остальных втаскивали на руках. В напряженной тишине разносился скрип досок под нетерпеливыми шагами палача.
Я ощутил на себе чей-то взгляд, будто внезапный удар шпаги. Эвины глаза смотрели на меня осуждающе. Ее взгляд врезался в сознание нестерпимым уколом совести. Это был призыв к действию. Смятенным умом я лихорадочно искал выход – что делать?