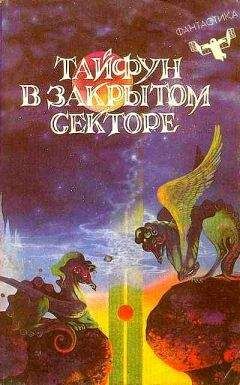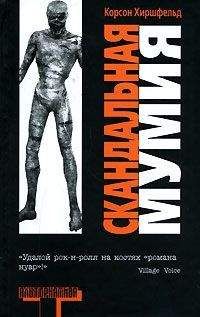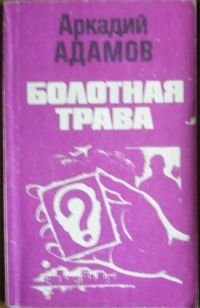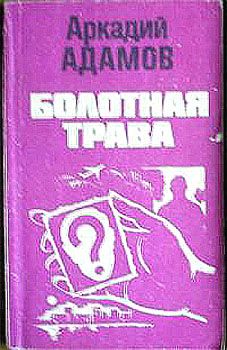Александр Уралов - Псы Господни (Domini Canes)
В злости и страхе Мёрси не обратила внимания на эти слова. Да и то сказать, особо раздумывать не приходилось. Нижнего белья в «Охотнике» не было, женскими размерами тоже не обзавелись. Мёрси попросила всех отвернуться и быстро сняла с себя одежду. Да… пахла она не очень. И одежда, и Мёрси. Сама того не желая, она попросила Илью жалобным голосом:
— Дайте воды, а?
Она смочила водой футболку цвета хаки… именно в такой щеголял Жан Клод Ван-Дамм в фильме «Отсчёт»… и обтёрла всё тело. Грудь покрылась пупырышками гусиной кожи. Чёрт… этот инвалид наверняка наблюдает за ней, чёртов онанист! Она натянула на себя пятнистую футболку, заранее прикинутую по размерам, но всё равно, большую, и посмотрела на себя в полумраке свечи. Получилось чересчур сексуально. Напрягшиеся соски вызывающе торчали под тканью. Ноги белели в сумраке…
«Волкодав бы просто кончил, увидев меня такой… а теперь он мёртвый… он бродит по коридорам ментовки, тыкаясь головой в двери и мыча: «Мё-о-орси! Я знаю, что ты зде-е-есь!»… и его потрескавшиеся губы раздуваются…
Он весь раздувается… ведь он же мёртвый… и гниёт.
Мёрси встряхнула головой. Девочка, чем дольше ты здесь стоишь, чем быстрее Лёша тебя найдёт! Она стала натягивать на себя штаны и куртку. И что этот перекорёженный Илья имел в виду, когда говорил о том, что они живут в тумане уже не меньше недели? Туфли на каблуке к пятнистым штанам, конечно, не годились. Носки, кипой лежащие на прилавке, все были какого-то великанского размера. Натянув их на ноги, Мёрси поглядела на себя в зеркало. Носки дошли до колен и даже чуть выше. Пятка болталась на голени. Чулочки, просто чулочки, да и только! Ладно… сойдёт и так.
С ботинками повезло больше. Видимо, маленькие размеры были не в ходу… как и самые здоровенные. Впрочем, в обувных магазинах всегда так. Либо не влазишь, либо болтаешься. По счастью, ступни Мёрси были аккуратными, она это прекрасно знала, мысленно называя их «точёными». Прекрасное слово… старомодное и элегантное.
А вот в зеркале Мёрси сейчас выглядела совсем не элегантно. Какая-то девочка-боец, задохлик из многосерийного телевизионного «Терминатора» с засученными по локоть рукавами. Не особо раздумывая, Мёрси прошла за прилавками к стенду с оружием. Слева, на оленьих рогах висели ремни и какие-то замысловатые кожаные ремешки. Мёрси выбрала себе ремень и портупею. Странно, но в кармане своего модного жакетика, она обнаружила две обоймы. Переложив их в карман пятнистой куртки и стараясь не сильно заморачиваться этими чудесами, она забрала портупею, сунула свою одежду в рюкзачок и направилась к выходу, где на стуле сидел Илья, держа ружьё.
— Долго копаешься, — сказал он и аккуратно потушил сигарету. — Свечи забери с собой, пригодятся ещё.
Мёрси послушно отлепила оплывшие свечи от прилавка. «Странно всё это, — подумала она. — Война, что ли случилась, пока я в ментовке дрыхла?»
— Ты где живёшь? — спросил Илья, когда они выбрались на улицу. — Далеко?
— На Эльмаше, — сказала Мёрси и в очередной раз безуспешно попыталась включить свой сотик.
— Ни хрена себе… далековато. Учти, трамвай не ходит.
— Я уже поняла, — сухо сказала Мёрси. — Ну, мальчики, я пошла домой, — и сразу пожалела о своих словах. Куда, ну, куда могла пойти семнадцатилетняя девушка в этом тумане… через весь город, внезапно опустевший… если только два этих странных чудика не врут. Но с другой стороны, несмотря на абсурдность такого предположения (глупости какие! город видите ли опустел, ха!) Мёрси чувствовала всей кожей, всеми нервами и всей душой мрачную пустоту мегаполиса. Это трудно было объяснить, но она верила этому неожиданному чувству.
— Куда ты пойдёшь? — удивился Илья. — Я же тебе говорю — нет никого! Ни трамваев, ни троллейбусов, ни телефона, ни воды. Нет даже этих чокнутых мародёров… кроме нас с Сашкой.
Видно было, что он уже изрядно приложился к водочке. «Не хватало мне ещё одного пьяного», — подумала Мёрси. Она поглядела в сторону ГУВД. Слава Богу, его по-прежнему не было видно. Из серой ваты тумана угловато торчал только огромный джип, рядом с которым стоял давешний молчаливый верзила… бугай с исчирканным шрамами лицом и виноватыми глазами. Ружьё он держал как-то знакомо… где-то Мёрси уже видела такую повадку…
Ах, да! Военные в кино! Ствол ружья вниз, приклад у правого плеча. И повязка на голове, как у спецназовцев в любимых DVD Волкодава…
Словно откликаясь, обрадовавшись, что, — да-да, наконец-то и обо мне вспомнили! — из тумана вдруг совсем рядом знакомо завыли:
— Мё-о-орси!..
— А говоришь, одна! — хохотнул Илья. — Друган тебя зовёт…
— Он мёртвый, понимаешь? Мёртвый он! Как зомби, как покойник! — заорала перепуганная Мёрси, нашаривая пистолет в кармане объёмной куртки. Пальцами она чувствовала его, но никак не могла вытащить, не сообразив, что сунула руку в соседний карман. — Он за мной тащится!
Илья не успел ничего сказать, как Сашка скользнул за джип. Из-за крыши мелькнула его голова и нырнула в туман. Волкодав завыл снова и вдруг резко замолчал. Неосознанно, Мёрси прижималась к Илье… и слушала, слушала, слушала… Господи, что же это такое творится здесь, на этой долбаной улице, в этом отвратительном городе, на этой мерзкой планете? Илью била крупная дрожь.
Из тумана медленно вышел Сашка. У Мёрси скрутило желудок… она со страхом смотрела на огромные руки… но руки Сашки были чисты.
— Что там? — надтреснутым голосом спросил Илья.
…да-да-да! что там?! ты убил его убил ножом ты убил Лёшку убил навсегда…
— Он ушёл, — сказал Сашка. По лицу его катились слёзы. — Он ушёл.
Где-то далеко-далеко, на самом краю слышимости, мощно вздохнуло что-то огромное… и через несколько секунд пласты неподвижного тумана лениво взвихрил слабый порыв пахнущего сырым мясом воздуха.
АННА (одна в тумане)
«До войны дедушка Григорий работал в железнодорожном депо в Балашове. Родом из донских казаков, перебравшихся после революции в город — роста невысокого, рыжий, живой, своенравный. Состоял в числе лидеров профсоюза железнодорожников. Справедливый был человек, жёсткий и честный. Уж кому он там на хвост наступил, так и осталось неизвестным, да только пришли однажды ночью люди в кожанках и увезли мужика в «воронке». Известное дело — тогда всё быстро делалось. Слава Богу, не расстреляли — отправили в трудовые лагеря.
А бабушка с двумя детьми на улице оказалась: семья «врага народа» как-никак. Квартирку их быстро к рукам прибрали, с работы уволили, а родные отвернулись. Все разом, как один. Знать, мол, не знаем. Из-за твоего муженька жизнь портить? Уволь — уж давай сама как-нибудь. Вот так вот — ни работы, ни угла своего.
Приютила Надежду Ивановну с дочкой Тамарой и сыном Сергеем дальняя родственница в Златоусте. Так, седьмая вода на киселе, непонятно кем и как им приходится. Однако жила баба Дуня одна в маленьком домике на самой окраине. Там и войну встретили. Надежда Ивановна ходила по людям — стирала, мыла за копейки или за продукты. Баба Дуня за жалким хозяйством, да за ребятишками приглядывала.
Ох, и несладко жилось! Голодали. Дети собирали по огородам корешки, крапиву и щавель — варили похлёбку. В лесу — грибы, ягоды, орешки иногда попадались. Папа рассказывал — налопаются с Тамаркой зелёных орехов и диких яблок, потом пузом маются. Бывало, рыбки наловят — и скорее домой, пока никто не увидел и не отобрал. Чудом купленную по весне проросшую картошку высаживали на огородике. Баба Дуня строго следила: «Ребятки, глазки-то аккуратно вырезайте — из этих росточков потом цельный кустик картохи вырастет — будет что покушать». Дети аккуратно, высунув от усердия языки, разрезали сморщенные клубни на кусочки. На каждом — росточек. А из оставшихся обрезков и счищенной кожуры — опять же похлёбку варили. А зимой и вовсе плохо было. Папа так всю жизнь потом и мучился, как он говорил, «кишками» — наследие военного детства.
Конечно, если бы Надежда Ивановна устроилась в тыловой госпиталь санитаркой — было бы попроще. Там помимо жалованья можно ещё и кровь сдавать — а за это усиленный паёк полагается. Да вот только клеймо «жена врага народа«…Не принимали в госпиталь с такой репутацией. Так и мыкались. Выжили, однако.
Дедушка Григорий вернулся уже после войны. Худой, больной и озлобленный на весь мир. За столом съедал всё, что ему накладывала жена — никогда с детьми кусочком не поделится. Крошки со стола руками собирал — и в рот. Любил дочку и сына, но видать тоже так намаялся да наголодался… папа не любил рассказывать, как они жили все вместе после войны.