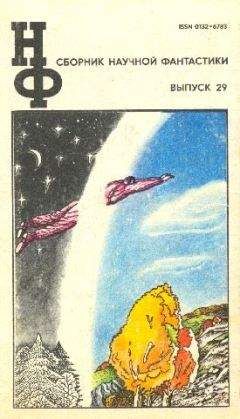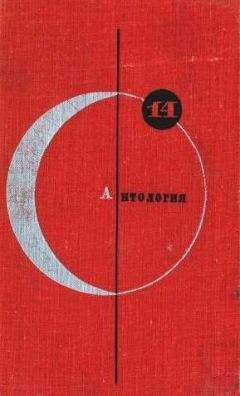Борис Штерн - Стражи последнего неба
— Валахия? Но это же сущая дыра.
— Безусловно. Но в качестве плацдарма для походов в Европу — дыра стратегически важная. До того как Османы присоединили ее, это вдобавок был еще и сущий гадючник. Последний господарь — этот, с мерзким прозвищем, так допек своих подданных, что они сами снесли ему голову. И вот, спустя немало лет, оттуда стали доходить слухи — один нелепее другого, причем связанные именно с этим покойным злодеем. Мои враги часто называют меня человеком неверующим. Однако природа этих слухов такова, что поверить в них не может ни один здравомыслящий человек — будь то еврей, турок или христианин. Потому я подозреваю, что распускают их представители одной из враждебных Турции держав, чтобы, прикрываясь именем убитого господаря, подготовить вторжение. Я не хочу, чтоб твой визит связывали со мной, оттого и отправляю тебя туда кружным путем. Ты поедешь туда в качестве голландца — это не вызовет подозрений. И разберешься, что там происходит.
— Понял, — сказал Шилох. И уточнил: —А какое прозвище было у этого господаря?
— Очень напыщенное. Сын Дракона, — ответил герцог. — По тамошнему — Дракула.
Хольм ван Зайчик
АГАРЬ, АГАРЬ!
ИЗ ЦИКЛА «ПЛОХИХ ЛЮДЕЙ НЕТ»
На иврите эту трагедию называют «Шоа», что значит «Катастрофа». В других языках утвердилось слово «Холокост» — «Всесожжение». Так называют еврейский геноцид, устроенный нацистами в годы Второй мировой войны. Это событие разделило на «до» и «после» не только еврейскую историю, но и мировую. Отныне тень физического уничтожения целого народа, возможность такого деяния незримо витает над мировой культурой, заставляя обращаться к событиям 30-40-х годов XX столетия историков, философов, кинорежиссеров, художников. И конечно, писателей всех стран. В том числе, и русских писателей-фантастов. Два вопроса при этом постоянно встают перед ними. Первый — что было бы, если бы Гитлеру удалось победить? И второй: неужели этого нельзя было избежать?
Мир, созданный воображением Хольма ван Зайчика, это мир альтернативной реальности. Некогда, в шестидесятые годы XIII века, Александр Невский и сын Батыя Сартак, вступивший после смерти отца на престол Золотой Орды, договорились о партнерском объединении Орды и Руси в новое, единое государство, где будет править единственно закон. И вот уже в двадцатом веке именно существование процветающей империи Ордусь делает невозможным Холокост. Как это происходит и почему — об этом рассказ «Агарь, Агарь!..».
Ничего еще не было решено.
По дымчатому зеркалу пруда скользили, выгибая шеи и любуясь собой, лебеди; тонкие черные усы раздвинутой воды медлительно плавали вслед за ними — преданно и поодаль, будто не в силах расстаться и не решаясь догнать. И пахло щемяще, прощально: стынущей водой, опадающей листвой… Вечер. Осень.
Он любил это миниатюрное, тихое и дорогое кафе, спрятанное в маленьком парке так, как прячутся дети — «Ой, ты где? Ой, я тебя потеряла! Ах вот ты где, маленький мой, за кленчиком!». Чуть ли не каждый день он приходил сюда вот уж несколько лет; порой дважды в день, и в завтрак, и в ужин. Пока тепло — сидел на открытой террасе у самой воды, в холода — внутри… Он был молод, но привычками уже напоминал старика. Он понимал это, понимал, что слишком рано становится рабом умильно сладких мелочей и мучительно сладких воспоминаний; наверное, так мстил ему мировой закон равновесия, давно предощутив, что он — нарушитель в главном, и потому смолоду стараясь припечатать его к монотонности хотя бы в пустяках.
Но как не прийти сюда? Здесь так красиво…
И очень больно.
Именно там, где ему особенно нравилось бывать, он особенно остро ощущал, что все это — не его. Чужое. Чуждое. Он любил местечко, где родился, до слез; у него до сих пор щемило в груди, когда он, посещая Варшау, случайно оказывался неподалеку от дома, в котором снимал свою первую городскую комнату, и первые городские улицы его жизни, улицы той поры, когда он с изумлением начал ощущать себя самостоятельным (прежде он и ведать не ведал, что это такое), вдруг стелились под ним теперешним; он обожал миниатюрный благодушный Плонциг, однако ничего не мог с собой поделать. Он чувствовал постоянно, что он не отсюда, — и между всем, что мило сердцу, и самим сердцем разинута вечная трещина с острыми, зазубренными краями. Иногда он пытался представить, как же счастливы, сами того не понимая, бесчисленные те, кто может любить свой маленький мир без мучительной, точно зубная боль, раздвоенности, любить его как свой, будучи с ним в единстве, словно еще не рожденный ребенок в материнском чреве. Тот ведь тоже не осознает, как ему безопасно и уютно, и понимает, чего лишился, лишь когда исторгается вовне. Ему казалось, уже от одного ощущения этой теплой нераздельности можно быть добрым и всем все прощать… Представить не получалось. Он был этого лишен.
У всех — дом, у него и таких, как он, — пристанище.
Обман чувств это или реальность? Мания или точное понимание? Он не знал. Но с каждым годом все сильней пилил и сверлил сердце назойливый древоточец: чувство, что ничего своего у него здесь нет.
И не будет.
И если будет, то не здесь.
К соседнему столику степенно прошествовал, с чисто польской уважительностью неся перед собою живот, серьезный пожилой господин с красивой, со вкусом одетой и выверенно украшенной драгоценностями дамой; так носят бриллианты лишь те, кто к ним привык. Господин этот тоже частенько ужинал здесь; не зная, как зовут господина и его спутницу, кто они и где живут, он тем не менее лет уже около двух раскланивался с ними. И сейчас он приподнялся со своего стула и вежливо коснулся пальцами шляпы. Дама, не поворачивая головы, с мимолетной приветливостью улыбнулась в пространство, плавно перетекая в своем платье до пят к привычному месту; дорогая ткань вкрадчиво и ритмично шуршала, словно лебедь чистил перья. Господин чуть кивнул.
Показалось или нет, что он кивнул небрежнее, чем всегда?
Показалось или нет?
Что ж, в такое время с такими, как он, скоро совсем перестанут здороваться… На всякий случай.
А тут еще сон…
У него не получалось вспомнить, что именно снится ему вот уже несколько ночей подряд — но откуда-то он знал, что снится одно и то же. Наверное, из-за одинаковой грозной томительности сна, одинаковой беспомощности, которые душа помнила наутро… Тоска и бессилие. Нет, не так. Непонимание. Ему обязательно нужно было сделать что-то важное, оно могло определить всю его дальнейшую жизнь… возможно, не только его, но — многих. Однако во сне он никак не мог сообразить, что именно; а проснувшись, не мог вспомнить, что за выбор поставила перед ним ночь.
Сон Навуходоносора…
Вот только не было Даниила, который поведал бы ему его же собственный незапоминаемый сон и растолковал, что тот значит; он сам должен был стать себе Даниилом[10]. Легко сказать…
Помнилось только смутное ощущение нараставшего раз от раза грозового напряжения; и откуда-то сверху требовательно — все более и более требовательно — нависал и всматривался ему в темя, хмурясь, Бог. Беспощадный и железный, словно зависший прямо над домом ревущий боевой «сикорс», из бомболюка которого уже вывернулась, готовая обрушиться вниз, бомба…
Ордусяне, раньше всех начавшие строить и продавать всему миру «сикорсы», утверждают, будто у них до сих пор нет боевых. Только спасательные, транспортные… Но кто же им верит, ордусянам. Пусть сколько угодно повторяют, что спокон веку не встревали и впредь не намерены встревать в дела Европы… Никогда не знаешь, чего ждать от этой громады, залегшей по ту сторону границы в каких-то трехстах километрах к востоку от Варшау — и будто в другом мире. Даже если громада неподвижна — уже в самом ее ненынешнем, будто из иных, то ли ушедших, то ли еще не наставших эпох, отточенном ее странной этикой покое чудится неведомая опасность, куда более грозная из-за своей непостижимости, нежели пахнущие бензином и смазкой, такие будничные, такие домашние танковые армады англичан.
И даже если и впрямь они, ордусяне эти, были до сих пор столь беспечны, то после того, как первые пулеметно-бомбовозные геликоптеры герра Фокке и герра Флеттнера взлетели тут, под Мюнхеном, им уж деваться некуда, начнут строить… Должны бы начать.
Ордусяне. У них свой мир, свои законы. Но ведь именно из Цветущей Средины в начале года пришло от небольшой тамошней общины предложение приобрести вскладчину обширные пустующие угодья где-то к северу, чуть ли не на границе с Сибирью… Как это называлось? Би… Бири… Нет, не вспомнить. Их названия европеец может лишь по бумажке читать, да и то, как правило, — по складам. Достаточно того, что это Сибирь — кровь сразу стынет в жилах… Как это они нас там называют? Ютаи[11]. Вот это помнится. Звучит почти так же, как здешнее «юдэ» — но отчего-то приятнее для слуха. Странно…