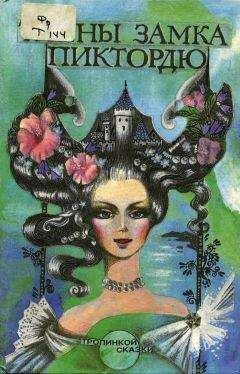Владимир Зенкин - Город Зга
— Уберите руку, — сказал я.
Затылок убрал. Медленно, не сразу. Убрал.
Они втроём торчали перед нами и ждали. Мы переглянулись и стали укладывать инструменты.
* * *…— Каждый сам. Вникай снова. В себя. Хватить жить в глухоте.
— Я жил, Мик Григорьич. Я двадцать лет жил! Один я? Предопределение? Двадцать лет — прахом! Я виноват? Я. Нет спора. Но…
— Ты был честолюбив. Талантлив. Притяжен к конкрету. Ты отвернут был от себя. Ты хотел скорей состояться. Здесь. В ортодоксе.
— Хотел… Я — нуль, Мик Григорьич. Со всеми своими талантами, образованностью, складом ума. Нуль! Без работы. Без идей-целей. Без семьи. Без злости на себя, способной поднять человека. Полуалкоголик-интеллигент. Играю на вокзале для пропитания и для…
— Знаю я.
— Откуда, Мик Григорьич? Ах да…
3Пол-литруха «Столичной». Литровый флакон какого-то лимонадообразного пойла. Четыре помидора. Триста грамм порезанной колбасы. Свежий, ещё теплый батон. Два пластмассовых стаканчика. Джентльменский экспресс-пикниковый набор в пакете. Пакет у Юрана. Я несу чехлы с инструментами.
Предложение поехать ко мне, посидеть без помех после колебаний было отвергнуто Юраном — далековато всё-таки ко мне добираться. Предложения пойти к Юрану не возникло вовсе, Юран, в отличие от меня, был счастливо отягощён женою и двумя пацанами-младшешкольниками весьма не херувимской кроткости, вряд ли мы плавно вписались бы в данный семейный интерьер. Решено было спуститься к речке Закорючке (прозванной так за рваненькое извивистое русло), там и расположиться на травке под укрывом зелёных кущ. Душевную смуту, вызванную вокзальным инцидентом, надлежало утишить-пригасить вековечным способом.
Мы шли к спуску мимо двух новых свежезаселённых близнят-шестнадцатиэтажек. Вокруг ещё не убрали строительный хлам. Огрызки бетонных плит под окнами, сломленный пополам лестничный пролёт, некрашеная деревянная будка, небрежно сложенные в стопу сетчатые оградительные щиты.
Среди привычного новосельного хаоса резвились дети.
Многоэтажность вообще неприятна моей душе. Я не люблю высь, я люблю ширь и долгие годы житья в гигантском городе не изменили меня. И теперь, проходя мимо серых небоскрёбчиков, задрав голову, я без восторга обозревал бетонные оборки балконов, верхние окна, отражающие блики предзакатного неба, и думал — хорошо, что моя квартира на первом этаже. Жить там, в душевном висе меж землёю и небом — увольте.
Меня привлек маленький, еле различимый белый комочек на подоконнике последнего этажа. Котёнок? Оконная створка была приоткрыта внутрь, котёнок сидел на краю и смотрел вниз.
— Видал героя? — показал я пальцем Юрану, — На самом краю сидит, дурило. Сдует сквозняком. Или спихнёт рамой. Куда хозяева смотрят?
И через пару секунд произошло именно то, что я беззаботно предположил.
Оконная створка дёрнулась от резкого сквозняка, возможно, при закрывании входной двери и столкнула котёнка.
Он успел, извернувшись, уцепиться коготками за край подоконника, повисел, дрыгая задними лапками, ищя опору, с тонким бессильным мявом сорвался вниз.
— Ах ты ж! — сокрушённо выдохнул Юран, дёрнулся, было, поймать, понял — не успеет. Никто не успеет.
Котёнок ещё не умел группироваться и управлять своим тельцем, он летел, кувыркаясь, как плюшевый пупс.
«А н-ну-у!..» — вдруг стиснулись зубы мои, и по спине брызнул льдистый озноб, и взгляд, вцепившийся в белого смертника, стал жёстким, стеклянистым, и боль-напряженье просыпалась в затылке, и взбарабанила кровь в висках…
В обрывок секунды во мне без меня стряслось это, и падение котёнка примерно на высоте четвёртого этажа стало быстро замедляться, словно он упал в прозрачный кисель. Кувырки его прекратились, он приземлился на бетонную отмостку, как под парашютом, всеми четырьмя лапками. Стоял, мелко дрожа, тараща глаза-бусины на подбегавших детей.
Я тёр затылок, разгоняя крапины боли.
Юран ошарашено уставился на меня.
— Что? Эт-то… Это — ты что ли? Н-не понял…
— Похоже, я, Юрик. Сам не понял ещё. Впервые такое.
* * *…— Ничего не зря, — говорите вы. Но я не сделался ни сильней, ни мудрей, ни добрее. Даже ждать не научился.
— Ну кое что всё же понял ты, я полагаю.
— Вы о чем, Мик Григорьич?
— Да продолжение всё тех же простых истин. Из твоей юности. И наверное, ещё одна. До которой уж ты-то должен был дойти.
— Не знаю. Не шёл я никуда, я топтался на месте.
— Обязан был. Ты жил только разумом. Гуманными амбициями. Никакой порядок разума не переходит в страсть. Без побудительной искры. Разум — скаляр. Страсть — вектор. Движитель. Где твоя искра, куда ты дел её? Сподобен, говоришь? Это нужно теперь доказать. Ибо Зга, её смысл — всё-таки, в тебе. Как и в других, немногих.
— Мик Григорьич, помилуйте, погодите! Осените меня или дайте самому простичься. Я стал глупее, чем был, мне нужно время.
— Нет у тебя больше времени.
4Нетвёрдой походкой поплёлся домой Юран. Я стоял на троллейбусной остановке, смотрел ему вслед. Его спина была почти пряма, почти беззаботна. Но беззабота эта — водочкин лукавый подарок, надолго ли достанет её? А там опять с утра, а то и с вечера за порогом родного дома прежний муторный неустрой, прежние ржавые черви, сверлящие душу, мозггде бы что заработать, какую б халтурку словить. Случайные заработки — препаршивая вещь, по себе знаю. Сегодня вдруг подфартит, отломится приличный кус, а завтра — хоть харей об стенку, хоть подыхай с голодухи, хоть бутылки ходи ищи по помойкам. Мне-то ладно, а ему каково с семьёю? Это при всём при том, что Юран — музыкант класснейший, аранжировщик от Бога. Ему бы гастролировать по заграницам с каким-нибудь оркестром виртуозов. А он — на вокзалах или, коль вдруг посчастливится, в третьесортных кабаках-гадюшниках на подменах. Жена его продавщица, холодная лотошница. Постоянный заработок, повезло. Ух, повезло! — у неё тоже консерватория за плечами плюс девять лет педагогичества в музыкальном училище. Стране нужны лотошницы, а не нужны музыканты. Такая замысловатая страна.
Юран дошагал до перекрёстка, обернулся, бодро, слегка качнувшись, махнул мне рукой на прощанье, исчез за поворотом.
Подошёл мой троллейбус. Протолкавшись к заднему окну, почти упершись лбом в стекло, я бездумно следил за убегающим назад сумеречным асфальтом.
Я был досадно трезв, водка не взяла меня сегодня, не пошла; с трудом осиленные пол-стакана — явная для меня аномалия.
Наверное поэтому в голову мне лез всякий выспренный вздор. Насчёт того, что путь наш жизненный, ни есть ли он, как этот текущий назад щербатый тёмный асфальт, и зрить дано нам его лишь в окно заднего вида, и спиною неотвратимо сидим мы к грядущему нашему, даже если сидим лицом, вцепясь в руль, в блаженном наиве, что подвластна нам и управима нами наша судьба-шарабан-троллейбус; спиною-спиною — и ведомо нам лишь откуда уехали, а вот при-едем куда — Бог весть. И гнать-понукать судьбу, и роптать за смутный норов её и за ненежность к нам, ею везомым, стоит ли, не зная причин пути и срока Конечной Станции. Может, лишь в миге последнейшем эти причины и открываются нам и принимаются нами бессомнительно, просветленно.
Ты не согласен со мной, ох не согласен, жизневелитель, сноб, крепыш-здоровяк; брито-полированный (крутая мода) череп, густое золото нашейной цепи, серьга-бриллиант в ухе, бескариесные, мерно терзающие жвачку челюсти, нехилые отливки плеч под тенниской, сильные пальцы на руле суперновенького «Бьюика» — блескуче фиолетовой зверины с красивым змееньем эмалевых цветно-пламенных языков на борту и на крыше.
На обгон, на обгон тебе б, да троллейбус глуп, не даёт, не жмётся к обочине, да встречное движение плотно, как назло. Но выбрал-таки момент, рявкнул, отогнал вправо лопуха-троллейбуса, прошевелил губами нелестное в адрес водилы, мощно рванул вперёд, исчез из заднего стекла, из моего обзора.
Ах и увы, а ну как, зря поспешаешь ты невесть куда, а ну как, вовсе не так кротка, не так глянцевита фортуна твоя, как преданный «Бьюик»! И извечным манером, спиною вперёд едешь ты с резино-незрячим лицом на затылке. И путь твой оставшийся отчего-то не длинен. И много ранее, чем ожидаешь, твоя Конечная Станция, где выходить тебе и обращаться в ничто. Почему-то вдруг так показалось мне, отзвякнуло во мне, глядючи на тебя через заднее несвежее стекло. Уж извини, может, ошибся…
Эти досужие никчёмные измыслы ещё более испортили моё настроение. Мне вдруг расхотелось ехать, я вышел из троллейбуса возле моста через Ильту. Я дошагал до середины моста, до места, где я любил останавливаться, облокотясь на чугунные перила, стал глядеть в тёмно-ртутистую вечернюю воду. Могучая ре-ка казалось неподвижной, но я знал, что течение её достаточно быстро. Только с высоты оно незаметно, упрятано под верхний слой воды. И в течении тёплые и холодные струи почему-то не смешивались, что доставляло неприятности, даже опасности купальщикам. А мне река нравилась. Скрытный, непанибратский характер был у Ильты. Под стать моему.