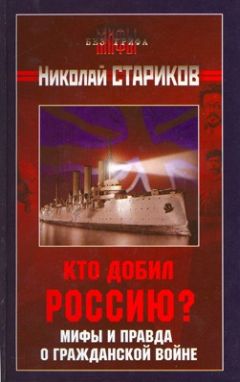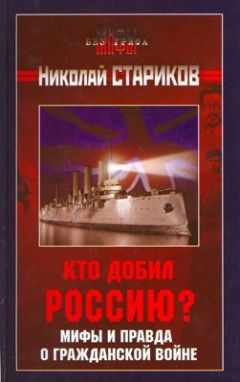Николай Воронов - Сам
— Не могу, — угрюмо сказал он. — Плохо главному врачу. На автомобиле туда не проедешь. Сперва донесу до приемного корпуса…
Кива передразнила Курнопая, но, как отметил он про себя, маска на ее лице ничуть не смазалась.
— У термитчиков суровое воспитание, но и оно не может сделать черствым доброе сердце. Будь главсержем, наградила бы тебя орденом Смелости первой ступени. Главврачу плохо — уважительная причина. Но нельзя думать ни о ком, когда призывает светозарный Бэ Бэ Гэ.
— Не могу. Будет подло.
— Гу, бу-бу… Ты, доблестный термитчик, не знаком с дворцовой этикой. Эх, ты, бу, гу-гу. Пять лет ожидал главсерж этого дня. И еще кое-что. Головорезу номер один прочат огромное будущее. Погубишь блестящую карьеру.
— Погублю так погублю.
— Ку, тебе не простит САМ, главсерж и народ. Садись рядышком.
В сердцах Курнопай сел в автомобиль, да так хватил дверцей, что произвел нарушение в системе, управляющей стрельбой. С минуту строчили пистолет-автоматы, срезали деревья, кусты, пробивали навылет каменный парапет.
Как он дрожал, Курнопай, что кто-то нечаянно застрелен, пока ехали от набережной к шоссе; там никто не обнаружился, и у него осталась тревога только о Миляге. После, на крутом уклоне, с волос Кивы соскользнул золотой обруч. Больно взволновался Курнопай из-за предположения, не она ли предназначена ему в посвященки. Давеча, увидев рядом с медноголовой девочкой Киву, он еще ведать не ведал о том, но как бы перенес ее образ к себе в душу, а ту, конопатенькую, пусть она картинна до соблазна, оставил лишь в запасниках созерцательной памяти. Жестоко наше зрение, самовлюбленно, без спроса отбирает тех, кто ему понравился, словно мы, кому оно принадлежит, одни вольны и полномочны выделять, будто от отобранных да отсеянных нами ничто не зависит.
Страдание Курнопая усилилось и разветвилось при мысли, что он порочен, ибо беспрепятственно пропустил к себе в душу, где обитала единственная Фэйхоа, жаркощекую Киву Аву Чел. Попробовал защитить себя оправданием: допустил-де из-за мужского одиночества, длившегося целых пять лет; если бы мальчишкой он не вкусил Фэйхоа, то и не манило бы к ней, и не воплотилась бы теперь в чувства девушка, с которой и слова-то не сказал. Но он сразу же отрекся от самооправдательной уловки, расценив ее как предательство Фэйхоа, и холодно покинул автомобиль, и не оглянулся на портике виллы, хотя Кива Ава Чел благодарила судьбу на горькой нотке обиды перед плачем за то, что ей довелось ехать в одном автомобиле с Курнопаем, любимцем САМОГО и держправителя Болт Бух Грея, посвященцем фаворитки номер один Фэйхоа…
Курнопая ожидали два «штангиста» — стволы шей, бугры мышц, тугие наколенники. «Штангисты» оказались банщиками, массажистами, педикюрщиками, парикмахерами. Парили вересковыми вениками в бане, рубленной из аризонского кипариса, сталкивали в ключевой бассейн, снова парили и сталкивали, каждый вершок тела прокрутили, пооттягивали, промяли, лицо побрили, навили кудри на голове, покрасили фиолетовым лаком ногти.
Одевали его гвардейцы Сержантитета. Ко дворцу препроводили десантники в защитных кедах, в комбинезонах из ткани, меняющей окраску под цвет растительности, валунов, строений, в маскировочных шапочках из такой же ткани, над которыми покачивались желтые впрозелень попугайчики из поролона.
Только теперь стукнуло в башку, что сегодня, куда бы он ни направлялся, над травой, среди листвы деревьев и кустов возникали синтетические попугайчики.
Возле дворцового эскалатора Курнопая встретил и приобнял прежний помощник Болт Бух Грея. Это он в день посвящения знакомил его с Фэйхоа. Приветливость помощника, как солнце в полдень, излучала странную энергию: ты был у нее на невидимой привязи, от которой хотелось освободиться.
«Сановник-демократ», — неожиданно подумалось Курнопаю. Он удивился, что так ехидно подумалось, и отметил, что нос помощника закрючился за счет раздавшихся щек, а бакенбарды распушились и выкруглились.
— Державный правитель ждет своего Курнопая, исходя нетерпением, — сказал ему помощник как о ком-то другом и даванул его подбородок. — Ух, бутуз! С цепочкой высококастовых родился! Курнопая, понимаешь ли, ждет Бэ Бэ Гэ. Но Курнопай пренебрегает нетерпением благодетеля Самии. Так или не так?
— Никак нет, господин державный сержант.
— Неужто Курнопай глух к неофициальному общению? С Курнопаем говорит не старший чином — единомышленник. Не правда ли, давно позабытое нетерпение означает своего рода преодоление пресыщенности?
— Не могу знать, господин держсержант.
Курнопай придуривался оболваненным службистом, чтобы отсечь опасное панибратство, а также лукавство, оно не обещало приязни. В училище он обострил чутье на подвохи, обычно возникавшие по зависти. В помощнике проглянул соперник: боится потерять доверительное, на грани интимности влияние на властелина.
Улыбается сержант, теребит крученую, из золота бахрому на шортах, но все еще не верит, будто перед ним Курнопай, ум которого, как огнестрельная плазма, залит в патрон и способен выполнять лишь испепеление.
На свет точечных излучателей помощник провел Курнопая по сумрачным коридорам и распахнул дверь к Болт Бух Грею, поглядел в глаза головореза номер один и, должно быть, понял, что он притворялся.
Сверловка взглядом в центр зрачков, по мнению мимикрологов, давала ошеломительные результаты по вызнаванию скрытых состояний человека.
Прежде чем пропустить Курнопая в помещение, помощник прибегнул к сверловке взглядом, и Курнопай не успел забронировать притворство и ощутил резь в глазах и слезы.
— Господин главнокомандующий, по вашему распоряжению… — начал докладывать он, еще не видя Болт Бух Грея, и замолчал от сладострастного шепота:
— Быстрей ко мне, славный Курнопай.
Он пошел на шепот, протирая глаза кулаками, различил подле экранно-огромного окна фигурку Болт Бух Грея, просвечивающую сквозь шелковый халат.
Он-то пульсировал, что придется пережить минуты властительского неудовольствия за несвоевременную явку, чтобы потом попросить держправа послать медиков за впавшим в беспамятство Милягой. Едва приблизился к окну, объяснилось, что́ так забавляло Болт Бух Грея. Над клумбами, они точь-в-точь передавали новый герб Самии, носились три сороки: нижняя летала игриво дразняще, пыталась пробиться вверх, но ее, отшибая друг друга, трещали перья и сыпался пух, стремились осадить верхние — самцы. Когда одному из них удавалось шарахнуть соперника, он накрывал сороку с такой быстротой и ловкостью, приохватывая крыльями с боков, что она врезалась в цветы, но это не нарушало его неотступности: клюв вцепливался в перышки головы, раздавалось взрывное шурханье хвостов и крыльев, и происходил взлет торжественных птиц, на которых уже пикировал другой самец. Теперь он голубел то ли от воздушного электричества, то ли из-за яростного лоска оперенья.
Клумбовый герб лежал в обводе цветущих сиреневыми дугами кустов будлеи. Невезучий самец, остервенев, таранил удачливого самца, выбил чуть ли не весь его радужный хвост, с лёта вбил сороку в черные тюльпаны, рассаженные под вид туманности Лошадиная Голова. Все трое исчезли за атласскими кедрами.
К тому, что сороки отметились в черных тюльпанах, под которыми снежно искрились звездчатки, Болт Бух Грей отнесся как к предзнаменованию длительного счастья. Было ясно — его радостный вывод связан с космической родиной САМОГО, однако Курнопай обратился к нему с вопросом, почему им сделан такой вывод. И главсерж под большим государственным секретом открылся, что САМ на долгое время отрубался, — невозможно было вступать с ним в верховную взаимосвязь: ни в эпистолярную, ни в телефонную, ни в лазерную, ни в телепатическую. В том, что сороки потоптались, имеется одобрительный знак САМОГО по отношению к курсу на прогресс труда и народного генофонда. Тебе не все известно о фундаменте нашего курса. Разумеется, он зиждется на указаниях САМОГО. Но его указания не исключают творческого подхода. Он в начале нашего правления в числе целого ряда мудрейших телепатем передал телепатему следующего содержания: «Я даю вам духовный чертеж. Здание державы, возводимое по нему, предполагает ваш огромный вклад в фундамент, в корпус и содержание корпуса». Курс на прогресс труда и народного генофонда, развиваемый нами, одобренный ИМ через соро́к, состоит в следующем: в разрушении чувства семейного родства.
Вздох скорбного недоумения вырвался из груди Курнопая. Ожидающий возвращения сорок, Болт Бух Грей положил ему ладонь на плечо. От пальцев главсержа осталось впечатление металлических.
— Чувство родства тормозит развитие человечества, отражается на благоденствии обществ. Жизнь семьи, как жизнь одноклеточного организма, примитивна. В эпоху, когда царствует чрезвычайно сложное создание бога и космоса — человек, одноклеточная жизнь — атавизм. Ее надо смести. Жизнь человечества и обществ должна быть и будет массовидной.