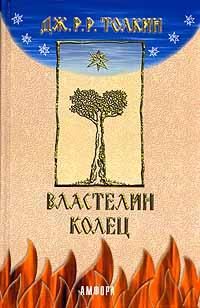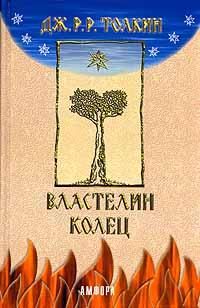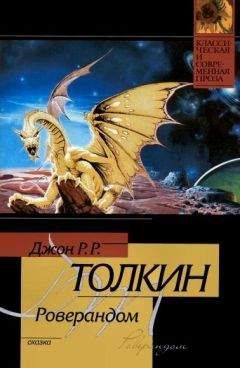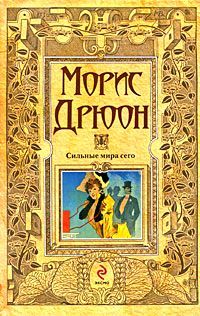Елена Кочергина - Князьки мира сего
Но присутствовало у него в душе и какое-то нездоровое торжество. До этого Пётр никого не убивал. Стрелять, конечно, несколько раз приходилось, в основном в воздух. Один раз стрелял по ногам и зацепил пулей одного алкаша, порезавшего собутыльника. А вот теперь — боевое крещение. Можно звёздочку прилепить на лобовое стекло автомобиля!
Боже мой, что творится с его психикой? Место ему в тюремной психушке! Надо забыться и заснуть, провалиться в бред. Любой бред лучше этого бреда, который с ним творится последнюю неделю. Господи, почему именно он?
Но во сне его, наверное, уже ждут. Дохлый инопланетянин, пирсинговый Кришна или Иосиф Виссарионович с отрывающимися усами. А может быть, жирный ухмыляющийся Будда, умерший от того, что обожрался мясом? Надо было поститься, раз возомнил себя великим учителем! Да, Будда будет в самый раз.
И Пётр начал проваливаться в тяжёлый лихорадочный сон.
Часть вторая
Господи, сделай так, чтобы я прозрел!
Глава 1
Болотный покой
Хороший палач, когда пытает свою жертву, должен удерживать её сознание на пороге сумеречного состояния, не давать ей провалиться в забытьё. Ведь если пытаемый минует порог адекватного восприятия действительности, он если и не потеряет сознание, то перестанет чувствовать боль и начнёт воспринимать происходящее с ним как сон. То же самое происходит во время тяжёлой болезни, то же самое — во время сильных душевных скорбей…
Тот судьботворец, который отвечал за Иваненко, был хорошим палачом: он удерживал своего подопечного на пороге сумерек, и Пётр острее острого чувствовал боль и не мог забыться, устраниться, отключиться или, наоборот, выздороветь.
Он не знал, сколько прошло времени, но ему казалось, что не меньше нескольких месяцев. Приступы раскаяния сменялись приступами отчаяния, приступы человеконенавистничества — приступами чёрной меланхолии. Иногда он вспоминал, что Раскольников так же болел. Но Раскольников совершил запланированное злодеяние, а Иваненко был при исполнении служебных обязанностей. Раскольников убивал мерзкую, но чистую перед законом старуху, а Иваненко убил убийцу, убийцу инопланетянина, человека, поставившего под угрозу будущее всей планеты.
Временами Пётр что-то ел из алюминиевой миски, временами проваливался в сон. Но сон не приносил облегчения, и просыпался он всё в таком же болезненном состоянии. Тело не умирало, но и не хотело жить. А душа тяжко болела, была изъязвлена, прожжена, искорёжена.
На допросы его почему-то не вызывали, наверное, «мариновали».
Будда ему так и не приснился, нет. Снился всё время один и тот же сон.
* * *Он встаёт с мятой постели, простыня на которой вся в бурых и жёлтых пятнах. На нём засаленный колпак и больничный халат. Ковыляет к письменному столу, на котором лежит один-единственный лист бумаги, стоят потухшие свечи, чернильница и гусиное перо — символы его творческой импотенции. В голове ни одной мысли — по воле какого-то сильного существа он забыл почти всю свою прошлую жизнь. Писать не о чем. Но он таки выводит пером на листе одну единственную суицидально-ироническую надпись: «был писатель, да вышел весь!», — и рисует злобный смайлик. «Вышел весь!» Вышел куда? Почему он пишет это каждый раз, когда просыпается?
Напротив письменного стола — мутное венецианское окно, увитое снаружи виноградом. Оно пропускает так мало света, что Петру кажется, будто он в склепе. Ощущение безысходности усиливает летящий откуда-то сверху необыкновенно густой и сильный бас, исполняющий романс Шуберта «Приют». «Чёрные скалы — вот мой покой…» — басит голос невидимого исполнителя, а ему слышится «оставь надежду, всяк сюда входящий», и тоска, как озноб, пробирает до мозга костей. Этот трек играет круглосуточно по кругу, и нет никакой возможности добраться до спрятанного в потолке проигрывателя.
Он уже знает, что произойдёт дальше. Войдёт старый мёртвый слуга с подносом в руках. Трупный яд будет капать на яичницу с его мёртвого лица, но это не страшно — писатель не нуждается в пище.
А затем в комнату ворвётся она — обнажённая косоглазая ведьма, его возлюбленная. «Ты не заслужил света, ты заслужил покой!» — злобно-радостно выкрикнет она и потащит его гулять на болота.
Будут стоять сумерки. Небо будет затянуто тучами, солнца не видно. Но вскоре сновидец в очередной раз с дрожью поймёт, что это не утренние, а затянувшиеся вечерние сумерки. А когда солнце за тучами окончательно зайдёт, станет по-настоящему страшно. Но сначала они с ведьмой будут долго гулять по болотам, и возлюбленная во всех подробностях будет рассказывать ему о половых безобразиях, которые творила на великом балу у сатаны.
Из болотных кочек там и тут будут торчать чахлые вишни в цвету. Но цветочки на них чёрного цвета, а внутри каждого спрятан крошечный глаз, пристально следящий за влюблёнными.
Устав от рассказов о извращённых сексуальных утехах, ведьма любовно-кровожадно посмотрит на него и скажет:
— Чуть не забыла. Сегодня вечером к тебе придут друзья. Те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе…
Ведьма, как всегда, будет бить в больное место. Он никого не любит, никем не интересуется, и друзей у него давно нет. Единственный его друг, Вадик, и тот предал его — встал на сторону света, а не покоя.
— Ты будешь засыпать с улыбкой на губах, — продолжит ведьма. — А прогнать меня ты уже не сумеешь. Беречь твой сон буду я!
«Нет! Только не она!» — закорчится всё существо писателя, а по болотам прокатится протяжный, леденящий кровь ужасом вой. Он оборвётся на жуткой пронзительной ноте, а с другого края болот ему ответит такой же. «Друзья» уже близко.
— У нас ещё есть время до их прихода! Давай полепим нового гомункула! — наконец закричит его любовница, оскалится и дико захохочет, увлекая его за собой к дому.
Как было бы хорошо, если бы сон на этом кончался. Но он не кончался. Девять чёрных всадников всю бесконечную ночь проделывали с ним такие штуки, какие не мог выдумать даже полубесноватый-полушизофреничный Сальвадор Дали. Вот старик бы расстроился да изошёлся завистью, если бы увидел сон Иваненко… «Это твой дом, это твой вечный дом!» — без передыху визжала ведьма, а чёрные всадники превращали его тело то в таракана, то в спрута, то в трупного червя, попутно скрещивая с разными отвратительными предметами.
Иногда Петру казалось, что дом с венецианскими окнами — реальность, а одиночная камера — сон заслужившего покой писателя. А порою, что и то, и другое — сон, а сам он — призрачное существо с перепончатыми крыльями, созерцающее сверху чьи-то чужие мучения, про́клятая душа, вставшая, как учил Ницше, по ту сторону добра и зла.
Но потом перед ним вставало лицо Алексея Голубинникова, человека Божия. Не мёртвое, живое, полное жизни и даже слегка улыбающееся. Пётр переставал терзаться и начинал что-то объяснять этому парню — говорил, что убил его не нарочно, что исполнял приказ начальства, что сделает всё, что сможет, чтобы утешить его вдову. Потом вспоминал, что Алексей — сатанист, и лицо исчезало, а тусклая лампочка на потолке камеры начинала мигать, и в душу вползала тьма.
* * *Однажды Петру приснился другой сон. Он был старым известным художником, жил в замке. Он сидел на постели и плакал. Все его старые красивые работы куда-то увезли, а на холстах, во множестве разбросанных по полу, были только какие-то жалкие закорючки. Почему Бог лишил его главного достоинства художника — твёрдой нетрясущейся руки? А ведь художник в Бога верил. По-своему, конечно.
Пётр то отождествлял себя с художником и смотрел на залу его глазами, то видел старого гения со стороны и тогда понимал, как мало у них общего. Художник глубоко проник в Тайну Мира, а Иваненко был дилетантом, философом-недоучкой. Художник постиг основы мистического взаимодействия формы и духа, а Иваненко бросался от одной теории к другой и не мог ни на чём остановиться. Художник дерзал писать картины на евангельскую тему, а Иваненко прочитал Евангелие всего два раза: один — по наущению Мыслетворцева, а второй — когда жизнь взяла за жабры.
И вот он встаёт с постели и начинает ползать по полу, собирая холсты и складывая их рядом с кроватью. Вдруг ему кажется, что со стены на него кто-то смотрит. Так и есть — на стене появилась его старая картина с изображением распятия. Но если раньше лицо распятого было вывернуто в сторону, то теперь оно смотрело прямо на него. И это было не лицо Христа, а лицо чудовища: зелёные глазные яблоки на улиточных рогах, маленький вёрткий хобот и длинный змеиный язык — всё шевелится. Художник ещё быстрее начинает собирать холсты дрожащими руками.
Затем поворачивается к стене — там уже другая ожившая его картина. Страшная толстая «богоматерь» на его глазах роняет опухшего младенца и показывает художнику испанский кулак. Гений с максимальной скоростью, на которую способно его паркинсоническое тело, начинает собирать холсты. Спички, спички, где же коробок со спичками?