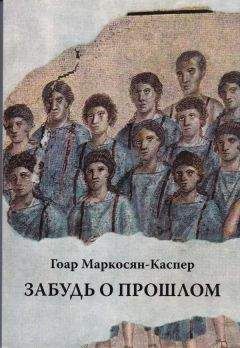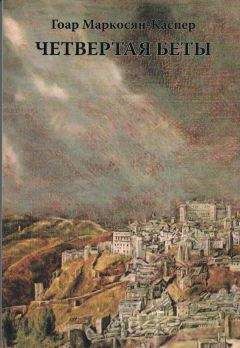Гоар Маркосян-Каспер - Земное счастье
— Ну я не настолько глуп.
— А что у тебя опять за комплексы такие?
— Все равно я вам не чета, Дан. Одно дело вырасти внутри цивилизации, другое — поспешно нахвататься того, что на поверхности.
— Почему на поверхности? Ну почему на поверхности?!
— Мне так кажется. Постоянное ощущение, что я упустил нечто важное, фундаментальное… Да даже и не фундаментальное, а просто общеизвестное, само собой разумеющееся… С фундаментальным как раз проще — спи себе с включенным гипнопедом… Но есть вещи, которых нет ни в одной программе, они то ли витают в воздухе, то ли… Не знаю. Трудно прыгнуть через полтора века. То есть прыгнуть-то можно, но тогда эти полтора века окажутся пропущенными вместе со всей той информацией, которая как бы пропитывает ткань времени и усваивается незаметно для человека… Приведу тебе пример. Когда я позвонил Наи… Тогда, в первый раз… Она, как тебе известно, позвала меня. Я сел в флайер, взлетел и только тогда понял, что не знаю, где она, и как ее найти. Она мне этого не сказала, а я сгоряча не спросил и только в воздухе понял, в каком идиотском положении оказался. Я, конечно, сообразил, что есть какой-то способ, наверняка настолько общеизвестный, что ей и в голову не пришло мне объяснять, что и как…
— Маячок, — кивнул Дан.
— Да. Сколько тебе было лет, когда ты им впервые воспользовался?
Дан подумал. Сколько ему было, когда отец однажды назначил ему свидание на улице и объяснил, как его найти: влезть в флайер, включить автопилот, набрать отцовский личный код, затем нажать на круглую клавишу с буквой «М»?..
— Наверно, восемь или девять… Не помню.
— Ну вот. А мне до этого не приходилось иметь с ним дела, не было случая… Ладно, я догадался, что способ есть. А дальше? Не мог же я позвонить ей снова и попросить объяснений… Как дурак.
— Ты мог позвонить мне, — сказал Дан.
— Я так и сделал бы, но подумав, решил, что в компьютере флайера должен быть ответ на этот вопрос, ведь именно на флайере или автомашине обычно направляются к кому-то или куда-то…
— То есть ты вышел из положения с честью, — прервал его Дан. — Что неудивительно. Ты же всегда руководствуешься логикой, а управление техникой, как правило, подчиняется законам логики. Это все мелочи, Маран. Зря ты придаешь им такое значение. Я понимаю, ты человек самолюбивый, но…
— Дело не в самолюбии, Дан.
— А в чем же?
— Да в обстоятельствах, наверно. Ведь я единственный, кто представляет сегодня здесь Торену. Я хотел бы делать это достойно. Не как… младший брат.
— Надеюсь, ты ей простил? — спросил Дан.
— Простил. Хотя, признаюсь, это было нелегко.
— И на том свете не забуду, как она рыдала у меня на груди, говоря, что ты никогда ее не простишь.
— У тебя на груди? — удивился Маран. — Когда это?
— На Торене, — сказал Дан лукаво. — Когда ты решил изобразить гордое презрение.
— По-моему, я сделал для нее все, что мог.
— Разумеется. Но сдается мне, она затеяла эту поездку лишь для того, чтобы с тобой увидеться. А ты…
Маран усмехнулся.
— Я в покровителях не нуждаюсь. Вариант со старшей сестрой меня не устраивал. Женщина, на которую я стал бы смотреть снизу вверх, не родилась. И не родится.
— И не только женщина, — сказал Дан, посмеиваясь. — Разве нет?
Маран лишь улыбнулся.
Оставив флайер на девятом уровне битком набитой стоянки напротив высокого и узкого, сплошь выложенного отражавшими ясное, почти безоблачное, небо и потому голубоватыми стеклами здания Городского банка, построенного в начале прошлого века, они спустились на лифте прямо в подземный переход, полный народу, прошли под опоясывавшим центр широким асфальтовым кольцом, по которому тек не поток, но все же немалый ручеек автомобилей, иссякавший уже полвека, но пока еще не высохший, и поднялись на поверхность в пределах пешеходной зоны. Узкая улица, вымощенная, как и несколько сот лет назад, булыжником, обзавелась в прошлом веке тротуарами, выложенными полусинтетической плиткой, по которой было удобно шагать, хотя смотрелась она странно, как и огромные витрины из небьющегося стекла на занятых магазинами первых этажах невысоких старинных зданий… Витрины, впрочем, появились не в прошлом веке, раньше, много раньше, да и кто в этом разбирался, для подавляющего большинства прохожих, фланирующих по старому городу целыми днями, четырех-пятисотлетние постройки давно слились в одно вполне гармоничное целое с полуголыми пластиковыми манекенами, рекламирующими одеяния, от вида которых создатели этих построек потеряли бы сознание.
Пройдя до конца улицы и свернув на другую, чуть пошире, они наткнулись на толпу, с гамом и грохотом продвигавшуюся в направлении набережной. Гремела немелодичная музыка, единственным «достоинством» которой была громкость, развевались флаги всех цветов радуги, никакой стране не принадлежавшие, а просто украшавшие шествие веселыми своими переливами, молодежь отплясывала на ходу, люди постарше держались ближе к домам, но многие и подпевали, вернее, подкрикивали, стояли шум и хохот.
— Какой-то праздник? — спросил Маран.
— Да нет, — сказал Дан, — просто пятница.
— Сегодня пятница, завтра суббота, послезавтра воскресенье…
— Да.
— И они будут валять дурака… прошу прощенья, веселиться три дня подряд?
— А почему нет?
Маран покачал головой.
— Если б мне с юности пришлось развлекаться в таком количестве и подобным образом, я бы давно умер от скуки.
— Никто же их не заставляет, — сказал Дан. — Кому неохота, могут сидеть дома и читать книги.
— И много тех, кто сидит и читает книги?
— Не думаю. Давай свернем в переулок, а то у меня от этого грохота голова начинает болеть.
Они с трудом пробрались сквозь толпу, прошли дворами к ближайшему переулку и дальше по тому в сторону от улицы, по которой продвигалось шествие, но шум не уменьшался, даже как будто наоборот.
— Такое ощущение, словно он нас преследует! — буркнул Дан сердито.
— Шум? Так и есть. Он похож на гигантскую амебу, которая вытягивает ложноножку, пытаясь тебя достать, набухает, почти в нее перетекая, и разочарованно убирает ее только тогда, когда ты поставишь между ним и собой, — Маран свернул на параллельную улицу, — стену.
— Очень образно. Почему бы тебе не писать вместо прозы стихи? Благо, лишнего времени это не требует.
— Стихи я писал в пятнадцать лет.
— Вот как?
— Правда, у меня не было другого выхода. Нельзя же в пятнадцать лет писать романы. Собственно, это и в двадцать делать рановато, по идее за роман надо садиться после сорока, так что я еще даже и не дозрел до того…
— А почему у тебя не было выхода?
— Ну надо же было мне с чем-то идти к Мастеру.
Дан улыбнулся.
— Понимаю. Поэт мне как-то рассказал, что он пел песни мальчишкам на пустыре, Мастер проходил мимо, услышал и позвал его к себе. Ты, конечно, не мог отстать.
— И это тоже. Но не только. Ты не представляешь себе, Дан, что это был за человек. Когда Поэт влетел во двор… Как сейчас помню, я сидел во дворе под деревом и читал «Трактат о древнебакнианской архитектуре», который мне дала Дина, я нередко брал у нее книги из библиотеки, оставшейся от ее отца, собственно, потому я и не был на том самом пустыре, ходил за книгой… Словом, он влетел во двор и крикнул от ворот: «Маран, случилось чудо! Вен Лес пригласил меня к себе! Сам Вен Лес!» И это действительно было чудо для нас обоих, мы ведь уже прочли все его книги, Поэт сиял, как купол дворца Расти в полдень, а я почувствовал черную зависть, но она сразу прошла, потому что он сказал: «Ты, конечно, пойдешь со мной? Ты ведь не пропустишь случая увидеть вблизи Мастера?» Он произнес это именно так, с подъемом, будто с большой буквы, и с этой минуты Вен Лес получил свое подлинное имя…
— То есть фактически это Поэт его так окрестил?
— Ну да. В первую же встречу он попросил позволения называть Мастера так, и тот согласился, а позднее Поэт же разнес это имя по свету.
— Как интересно! Я и не подозревал. А скажи-ка, как все-таки подлинное имя Поэта?
— Родовое, ты имеешь в виду?
— Да. Есть же у него имя. В детстве, я думаю, его не называли Поэтом?
Маран рассмеялся.
— Тут ты ошибся. Нет, родовое имя у него, естественно, есть, но мы звали его Поэтом всегда, даже в раннем детстве, и когда я в пяти-шестилетнем возрасте заходил к нему домой, я слышал, как мать называет его «мой маленький поэт». Видишь ли, это сейчас он разговаривает, как нормальные люди, а когда он был мальчишкой, он рифмовал все подряд и к любой фразе подбирал мелодию…
— Ну ладно. А что было дальше? С Мастером, я имею в виду.
— Мы пошли к нему на следующий же день. Нас накормили обедом, после обеда Поэт пел, Мастер слушал, я тихо сидел в сторонке, потом Мастер стал нас расспрашивать, мы ему рассказывали о себе, и он нам в ответ рассказывал всякое… это был нескончаемый разговор, разговор на равных, такой, словно болтают три приятеля… Когда он наконец, как бы подводя итог, спросил Поэта, согласен ли тот пользоваться некоторое время его советами, как старшего коллеги… можешь себе вообразить?! Великий писатель и какой-то мальчишка… Словом, я чуть не умер от ревности. Я пришел домой и сочинил стихи. Без музыки, к мелодике у меня никогда не было ни малейших способностей. Но я слышал, что появились поэты, которые пытаются писать без музыки. И попробовал. Мастер прочел, подумал и спросил: «Скажи-ка, мальчуган, форма, я понимаю, твоя. А идея? Идея тоже твоя?» Я ответил, что да, и он сказал: «Я подозреваю, что это не твой жанр. Но пока пиши, что пишется». И я накатал потихоньку стихотворений двадцать. А потом написал рассказ. Мастер, когда его увидел, только увидел, еще не читая, сразу сказал: «Именно это я и имел в виду»… Дан, ты уверен, что мы идем в нужную сторону? Уже без десяти.