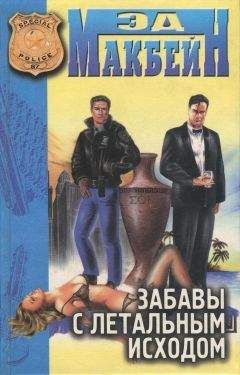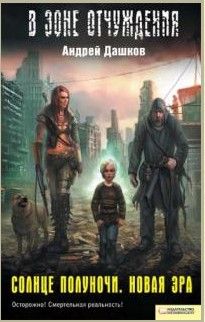Урсула Ле Гуин - Роза ветров (сборник)
Меня это не удивило. Ну, спят стоя, и что тут такого, подумал я. Здесь это казалось вполне естественным. По-моему, я уже тогда догадывался, куда попал.
То есть я, конечно, не знал этой истории, во всяком случае, не знал ее так хорошо, как ее, наверное, знаете вы. И я понятия не имел, почему они все здесь спят и как это случилось. Нет, я действительно не знал ни начала той сказки, ни ее конца. И про тех, кто находился в замке, я тоже ничего не знал. Но я уже понял, что все они почему-то спят. И это было очень странно, и мне, наверное, следовало бы испугаться, но я почему-то никакого страха не испытывал.
Так что, даже когда я встал и медленно побрел вниз по залитому солнечным светом лугу к ивам, росшим вдоль крепостного рва, я шел не как во сне, а как будто я сам чье-то сновидение. Я, правда, не знал, кому я могу сниться, разве что самому себе, но и это не имело значения. Я встал на колени в тени ив и опустил изодранные руки в холодную воду рва. Совсем рядом со мной — я мог бы достать его рукой! — медленно, поблескивая чешуей, проплыл золотистый карп; он тоже спал. На поверхности воды застыла водомерка на своих четырех крошечных «поплавках». Под мостом спали в своем глиняном гнездышке ласточка и ее птенчики. Высоко на стене замка, в открытом окне я заметил женскую головку с шелковистыми темными волосами; женщина спала, уютно устроившись на пухлой руке, лежавшей на подоконнике.
Я разделся, двигаясь медленно и спокойно, точно во сне, и скользнул в воду. Плавать я, правда, почти не умел, но часто купался в лесных ручьях. Ров оказался глубоким, но я, цепляясь за каменную кладку, вскоре нащупал ногами ивовый корень, торчавший из стены чуть ли не до середины рва. Усевшись на этот корень, так что из воды виднелась лишь моя голова, я стал наблюдать за тем золотистым карпом, что почти неподвижно висел в прозрачной темноватой воде.
На берег я вылез чистый и заметно приободрившийся. Затем я тщательно выстирал свою насквозь пропотевшую за зиму рубаху и перепачканные землей штаны, оттирая въевшуюся грязь камнем, и разложил одежду на траве под ивами, чтобы подсохла. Моя старая куртка и грубые башмаки на деревянной подошве, набитые для тепла соломой, так и остались там, наверху, под изгородью. Когда рубашка и штаны немного провялились на солнце, я надел их — приятно прохладные и пахнущие водой, — пригладил волосы пальцами, встал и пошел к мосту.
И по мосту я тоже шел спокойно и уверенно, без страха и спешки.
У парадных дверей замка сидел старый привратник, уткнувшись подбородком в грудь, и негромко протяжно похрапывал.
Я толкнул высокую, обитую железом дубовую дверь, и она с тихим стоном отворилась. Два громадных датских дога распростерлись у порога на выложенном плиткой полу: оба пса тоже крепко спали. Один из них «охотился» во сне — перебирал длинными лапами, повизгивал и снова затихал. После солнечного света внутри замка мне показалось темновато, воздух был неподвижный, застойный. Но и здесь, как и снаружи, не было слышно ни звука. Ни пения птицы, ни женского голоса — ничего, даже шарканья ног, даже боя часов! На кухне повара спали, застыв над кастрюлями и горшками; в комнатах и залах спали горничные, держа в руках тряпки для вытирания пыли или какое-то шитье; король уснул вместе с грумами прямо в конюшне, рядом со спящими лошадьми; королева спала, сидя за пяльцами с вышивальной иглой в руке; ее окружали спящие фрейлины. Кошка спала у мышиной норки, а мыши — рядом, за стенкой. Личинки моли так и заснули на шерстяной ткани. И музыка спала на струнах лютни менестреля. Там и время, казалось, тоже заснуло. Невозможно было понять, который час. Солнце спало в голубом небе, и недвижимы были сонные тени ив на воде.
Я знаю, знаю, что не я стал причиной этих чар. Напротив, я нагло ворвался в этот сонный мир, прорубил, пропилил себе проход туда. Я понимал, что я — браконьер. Я так и не научился быть кем-то еще. Я всегда браконьерствовал. Даже мой лес, мое царство — ибо я привык считать этот лес своим — никогда моим не был, никогда мне не принадлежал. Он принадлежал тому королю, что спал сейчас в этом замке посреди леса. Но ведь все разговоры об этом короле давным-давно утихли. И мелкие бароны без конца дрались друг с другом, пытаясь поделить этот лес; дровосеки безнаказанно валили там деревья, крестьянские ребятишки ставили силки на кроликов, а странствующие принцы, проезжая лесной дорогой, время от времени охотились на благородных оленей, понятия не имея, что нарушают границы чьей-то собственности.
Я-то отлично понимал, что вторгся в чужие владения, но все же особой беды в том не видел. Я, правда, позволил себе угоститься на славу. Еще бы! Пирог с олениной, который главный повар как раз вытаскивал из духовки, издавал столь восхитительные ароматы, что вынести это моей голодной плоти оказалось не под силу. Я пристроил главного повара в более удобную для него позу прямо на выложенном плиткой полу кухни и даже подложил ему под голову вместо подушки сложенный поварской колпак, а сам набросился на огромный пирог, ломая его руками и тут же запихивая в рот. Пирог еще не успел остыть и был на редкость сочным и вкусным. Я наелся досыта. Но когда я в следующий раз проходил через кухню, пирог снова оказался целым, даже уголок не отломан. Чары продолжали действовать. Неужели же я, как бывает во сне, не мог ничего изменить в этой реальности сновиденья? Я ел, сколько душе угодно, и все же кастрюля с супом снова оказывалась полной, и буханки свежего хлеба поджидали своей очереди в буфете, их аппетитные румяные корочки были совершенно целы. Красное вино вновь до краев наполняло хрустальный кубок, стоявший возле тарелки сенешаля, сколько бы раз я ни поднимал этот кубок, с благодарностью опустошая его в честь сего благородного господина.
Я неторопливо обследовал замок, его окрестности и службы, я медленно переходил из комнаты в комнату, часто останавливаясь и любуясь каким-нибудь шедевром — картиной, фантастическим гобеленом, предметом обстановки или музыкальным инструментом. Роскошь убранства поражала меня. Я часто присаживался то на мягкую кровать под балдахином, то на солнечную, поросшую мягкой травкой полянку в саду; я даже порой ложился, чтобы немного соснуть (ибо ночь там не наступала, и я засыпал, когда чувствовал усталость, а просыпался, почувствовав себя отдохнувшим). Так вот, бродя по всем этим залам, кабинетам, спальням, кладовым и помещениям для слуг, я в итоге стал узнавать спящих в замке людей, словно и они тоже были как бы частью здешней обстановки; они спали, прислонившись к стене, сидя, или лежа, или в той позе, в которой их застал этот волшебный сон, когда под воздействием неведомых чар их веки отяжелели, дыхание замедлилось, а руки и ноги сделались ватными и непослушными. Пастух на холме в этот момент мочился прямо в норку суслика; там он и осел бесформенной кучей и теперь сладко спал, как спал наверняка и сам суслик прямо в той мерзкой жиже, что образовалась у него в норе. Главный повар, как я уже говорил, застыл, согнувшись, словно ему в пылу готовки дали под дых, и хотя я много раз пытался уложить его поудобнее, пристроив ему что-нибудь под голову, он всегда хмурился во сне, словно желая сказать: «Отстаньте, я занят!» В дальнем конце старого яблоневого сада лежали в весьма недвусмысленной позе двое любовников, таких же крестьян, как и я. Он со спущенными портками, казалось, только что соскользнул с нее и, уткнувшись лицом в усыпанную лепестками яблоневых цветов траву, тут же погрузился в сладостный сон. Женщина, крепенькая, молодая, с румяными, точно яблоки, щеками и ярко-розовыми сосками, выделявшимися на пышной белой груди, лежала с задранной юбкой, широко раскинув в стороны руки и ноги, и счастливо улыбалась во сне. И этого зрелища моя изголодавшаяся плоть тоже вынести оказалась не способна. Я осторожно лег на нее, целуя ее грудь и алые соски и погружаясь прямо в ее медовую сладость. И она при каждом моем движении улыбалась все нежнее и бездумнее, а порой даже сладострастно постанывала. Потом я сполз с нее и долго лежал рядом с нею, такой же сонный, как и ее дружок, только по другую от нее сторону; я то задремывал, то снова просыпался и, приоткрывая глаза, каждый раз видел над собой поздние, но неопадающие цветы на ветвях яблонь. А вот сны там, внутри той гигантской зеленой изгороди, мне никогда не снились.
Да и что мне могло сниться? Мне и мечтать-то теперь было больше не о чем. У меня было все, чего только можно пожелать. И все же с течением времени, которое на самом деле здесь никуда не текло, я, даже при моей привычке к одиночеству, все чаще чувствовал себя одиноким; общество спящих начинало меня тяготить. Они были мирными и безвредными, я привык к ним, продолжая жить среди них, а некоторые даже стали мне почти что дороги, и все же они были для меня не лучшими товарищами, чем для ребенка его деревянные игрушки, которым он должен «одалживать» свой голос и душу. Я всюду искал себе работу — не столько для того, чтобы отплатить им за хлеб и кров, а просто потому, что я, в конце концов, привык постоянно трудиться. Я полировал столовое серебро, я подметал полы — снова и снова, хотя пыль тут же снова ложилась там и лежала неподвижно, как прежде; я чистил спящих лошадей, я расставлял книги на полках. И вот это-то последнее и привело к тому, что однажды я открыл какую-то книгу — просто от нечего делать — и попытался разгадать, что там написано.