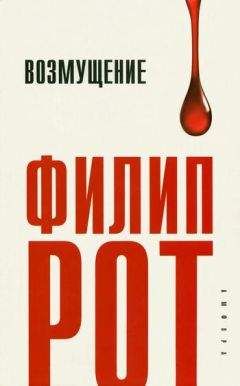Филип Дик - ВАЛИС. Трилогия
Ты всегда спешишь, подумала я, тоже вставая. Вслух я сказала:
— Ужин был чудесен.
— Правда? Я и не заметил. Очевидно, я слишком занят мыслями. Мне нужно столько закончить перед отлетом в Израиль. Теперь, когда у меня нет Кирстен, чтобы устраивать все для меня… Она так хорошо работала.
— Найдешь кого–нибудь.
— Я думал, что нашел тебя. Рыбак, сегодня вечером. Я ловил тебя, но не поймал.
— В другой раз, быть может.
— Нет, — ответил Тим, — другого раза не будет.
Он не объяснил. Он и не должен был, я знала, что это так, по той или иной причине: я чувствовала это. Тим был прав.
Когда он вылетел в Израиль, Эн–Би–Си упомянули об этом вкратце, как они сообщают о перелете птиц, миграции слишком обычной, чтобы быть важной, но все же как о чем–то таком, о чем зрителям все–таки следует сообщить в качестве (как это казалось) напоминания, что епископ епископальной церкви Тимоти Арчер все еще существует, все еще занят и все еще активен в делах мира. А после мы, американская общественность, ничего не слышали на протяжении недели или около того.
Я получила от него открытку, но она пришла уже после полного освещения в новостях сенсационной истории о найденном брошенном «датсуне» епископа Арчера, слетевшем задней частью с узкой, изрытой колеями извилистой дороги и наскочившем на выступ скалы, с картой, купленной на заправочной станции, на правом переднем сиденье, где он ее и оставил.
Правительство Израиля делало все возможное и без промедления, они задействовали войска и… черт. Они использовали все, что могли, но репортеры знали, что Тим Арчер уже умер в пустыне Мертвого моря, потому что там нельзя выжить, карабкаясь по скалам и ущельям. Нельзя выжить, и они действительно в конечном счете нашли его тело, и оно выглядело, по словам одного из корреспондентов на месте событий, словно он преклонил колени в молитве. Но на самом деле Тим сорвался со склона скалы, с высокого склона. А я приехала, как обычно, в свой магазин, открыла его для торговли, положила деньги в кассу, и на этот раз я не плакала.
Почему он не нанял профессионального водителя? — задавались вопросом репортеры. Почему он отважился отправиться в пустыню один, с картой с заправочной станции и двумя бутылками газировки… Я знала ответ. Потому что он спешил. Несомненно, поиски профессионального водителя отнимали, на его взгляд, слишком много времени.
Он не мог ждать. Как и со мной в китайском ресторане тем вечером. Тим должен был двигаться, он не мог оставаться на одном месте. Он был занятым человеком, и он помчался, бросился в пустыню на четырехцилиндровом автомобильчике, на котором и на калифорнийских–то автострадах ездить небезопасно, как объяснял Билл Лундборг. Эти малолитражки ненадежны.
Из всех них я любила его больше всего. Я поняла это, когда услышала новости, поняла это по–другому, нежели понимала прежде. Прежде это было чувство, эмоция. Но когда я осознала, что он мертв, это осознание превратило меня в больную, которая еле передвигалась, которую крутило, но которая поехала на работу, наполнила кассу, отвечала на звонки и спрашивала покупателей, может ли она им чем помочь. Я была больна не так, как болеют люди или как болеют животные. Я заболела как машина. Я по–прежнему двигалась, но моя душа умерла, моя душа, которая, как сказал Тим, так полностью и не родилась. Та душа, что еще не родилась, но родилась уже немного и желавшая родиться больше, родиться полностью, — та душа умерла, а мое тело механически продолжало двигаться.
Душа, что я потеряла в ту неделю, так никогда и не вернулась. Я машина и сейчас, годы спустя. Это машина услышала новости о смерти Джона Леннона, это машина горевала, размышляла и поехала в Сосалито на семинар Эдгара Бэрфута, потому что именно так машина и поступает — это манера машины встречать ужасное. Машина уже не знает ничего лучше, она просто перемалывает и, может, шумит. Вот все, что она может делать. Большего от машины ожидать нельзя. Это все, что она может предложить. Вот почему мы говорим о ней как о машине. Она понимает, умом, но нет понимания в ее сердце, ибо сердце ее механическое, спроектированное работать как насос.
И так оно все и качает, и так машина все и тащится да катится, знает, но все–таки не знает. И следует своей рутине. Она влачит то, что принимает за жизнь: придерживается своего распорядка и соблюдает законы. Она не превышает на своем автомобиле допустимую скорость на мосту Ричардсона, она говорит сама себе: «Мне никогда не нравились «Битлз»». «Я считала их скучными». «Джефф приносил домой их альбом «Резиновая душа», и если я слышу…» Она повторяет себе самой то, что когда–то думала и слышала, — симуляция жизни. Когда–то у нее была жизнь, теперь же она ее утратила. Теперь жизнь ушла. Она знает то, что она не знает, как в книгах по философии говорится об озадаченном философе. Я забыла, о каком. Наверное, о Локке. «И Локк верит в то, что он не знает». Это произвело на меня впечатление, подобная фраза. Такое я ищу, меня привлекают искусные фразы, которые должны рассматриваться как добротный английский прозаичный стиль.
Я вечная студентка и таковой и останусь. Я не изменюсь. Мне предлагали измениться, но я отказалась. Теперь я влипла и, как я говорю, знаю, но не знаю что.
14
Стоя перед нами, сияя улыбкой на круглом лице, Эдгар Бэрфут разглагольствовал:
— Что если бы симфонический оркестр был занят лишь тем, чтобы добраться до заключительной коды? Что тогда стало бы с музыкой? Один лишь невообразимый грохот, лишь бы побыстрее закончить. Музыка существует в процессе развития, в развертывании. Если вы будете подгонять ее, вы уничтожите ее. Тогда музыка кончится. Я хочу, чтобы вы подумали об этом.
Хорошо, сказала я себе, я подумаю об этом. В этот особенный день я предпочла бы не думать ни о чем. Что–то произошло, что–то важное, но я не желаю вспоминать об этом. Никто не желает. Я вижу это вокруг себя, ту же самую реакцию. Свою же реакцию в других, в этом миленьком плавучем доме у пятых ворот. Где вы платите сотню долларов — ту же сумму, я полагаю, что Тим и Кирстен заплатили этой чокнутой, этой шарлатанке и медиуму в Санта–Барбаре, которая всех нас погубила.
Кажется, сотня долларов — магическая сумма, открывающая дверь в просвещение. Поэтому я и здесь. Моя жизнь посвящена поискам образования, как и другие жизни вокруг меня. Это шум района Залива, грохот и гул смысла. Ради этого мы и существуем — учиться.
Научи нас, Бэрфут, сказала я про себя. Расскажи мне что–нибудь, чего я не знаю. Я, со своей–то недостаточностью понимания, жажду знать. Ты можешь начать с меня, я самая внимательная из твоих учеников. Я верю всему, что ты говоришь. Я законченная дура, подойди да возьми. Давай. Продолжай издавать звуки, они убаюкивают меня, и я забываю.
— Юная леди, — произнес Бэрфут.
Вздрогнув, я поняла, что он обращается ко мне.
— Да, — ответила я, поднимаясь.
— Как тебя зовут?
— Эйнджел Арчер.
— Почему ты здесь?
— Чтобы сбежать.
— От чего?
— От всего.
— Почему?
— Потому что больно.
— Ты имеешь в виду Джона Леннона?
— Да. И другое. Много чего.
— Я обратил на тебя внимание, потому что ты спала. Может ты этого не осознавала. Ты осознавала это?
— Я осознавала.
— Ты хочешь, чтобы я тебя так и воспринимал? Как спящую?
— Оставьте меня в покое.
— То есть дать тебе спать.
— Да.
— «Звук одной хлопающей ладони»,[118] — процитировал Бэрфут.
Я ничего не ответила.
— Ты хочешь, чтобы я ударил тебя? Дал пощечину? Чтобы разбудить тебя?
— Мне все равно. Для меня это не имеет значения.
— Что же тогда тебя пробудит? — спросил Бэрфут.
Я не ответила.
— Моя работа — пробуждать людей.
— Вы еще один рыбак.
— Да, я ловлю рыбу. Не души. Я не знаю о «душах». Я знаю лишь о рыбе. Рыбак ловит рыбу, если же он думает, что ловит что–то другое, то он дурак. Он обманывает себя и тех, кого ловит.
— Тогда ловите меня.
— Чего ты хочешь?
— Никогда не просыпаться.
— Тогда иди сюда. Иди и встань рядом со мной. Я научу тебя, как спать. Трудно спать, если надо просыпаться. Ты спишь плохо, ты не умеешь. Я могу научить тебя этому так же легко, как и могу научить тебя пробуждаться. Ты можешь получить все, чего бы ни хотела. Ты уверена, что знаешь, чего хочешь? Может, втайне ты хочешь проснуться. Ты можешь ошибаться в себе. Иди сюда. — Он протянул руку.
— Не прикасайтесь ко мне, — сказала я, подходя к нему. — Я не хочу, чтобы ко мне прикасались.
— То есть ты знаешь это.
— Я уверена в этом.
— Может, всё с тобой не так именно из–за того, что к тебе никто не прикасался.
— Рассказывайте мне тут. Мне нечего ответить. Что бы я ни сказала…
— Ты никогда ничего не говорила. Ты молчала всю свою жизнь. Говорил лишь твой рот.